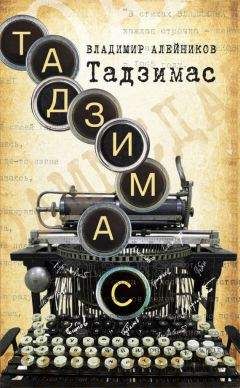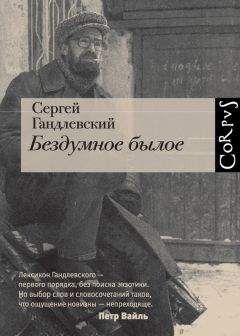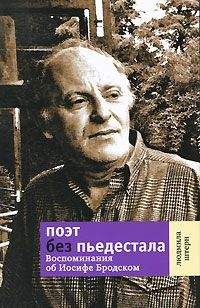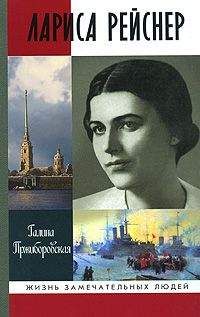Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах"
Описание и краткое содержание "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах" читать бесплатно онлайн.
Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978) — поэтесса, чьи стихи в советское время почти не печатались. М. И. Цветаева, имея в виду это обстоятельство, говорила о ней: «Вы — большой поэт… Но Вы — поэт без второго рождения, а оно должно быть».
Воспоминания О. А. Мочаловой привлекают обилием громких литературных имен, среди которых Н. Гумилев и Вяч. Иванов, В. Брюсов и К. Бальмонт, А. Блок и А. Белый, А. Ахматова и М. Цветаева. И хотя записки — лишь «картинки, штрихи, реплики», которые сохранила память автора, они по-новому освещают и оживляют образы поэтических знаменитостей.
Предлагаемая книга нетрадиционна по форме: кроме личных впечатлений о событиях, свидетельницей которых была поэтесса, в ней звучат многочисленные голоса ее современников — высказывания разных лиц о поэтах, собранные автором.
Книга иллюстрирована редкими фотографиями из фондов РГАЛИ.
Поражала в нем его солнечная щедрость, расположенность, открытость, доверчивость. Я не была предметом его увлечений, семейной знакомой, бывающей в доме, женой друга или еще кем-нибудь. Была только приятельницей приятельницы, автором горсточки стихов о зеленом саде, румяной девицей с неопределенными данными, блуждающей по литературным окрестностям. Но вот он подходит на Арбате, приветствует. Вот он выглядывает из окошка Дома Герцена и, видя меня, проходящую, громогласно возглашает: «Ольга Мочалова!» Приходит слушать мое выступление в Дом печати.
Всегда — доверие. Кто из признанных имен мог бы позвонить по телефону: «Почему Вы не пришли ко мне сегодня, как мы сговорились? Когда придете?» Я не пришла, потому что в майский день внезапно пошел снег, а я была в летнем платье. Ехать надо было с пересадкой и долго бежать пешком. «Вы уже, наверное, убрали пальто в сундук, — сказал он сострадательно, — сговоримся на завтра».
Был и такой звонок: «Приезжайте сейчас на Рождественский бульвар, я познакомлю Вас с Ахматовой». Я не поехала.
Он писал мне рекомендацию для принятия в члены групкома писателей, дарил свою книгу «На ранних поездах»[355] с трогательной надписью. Широкая простота, доступность и была гранью его таланта, такого необычного.
Когда он скончался, один из поклонников, приехавший на проводы гроба, спросил у встречной женщины: «Где дом писателя Пастернака?» — «А, этот, — ответила она, — он и на писателя не похож».
Из высказываний его и о нем«Мой друг пишет всегда с инициативной мыслью. Последнее время его стали „прихлопывать“, самостоятельность и ставится в вину».
«Реакционно всё — башмаки, коммунисты, надо вернуться к остроте 1911 года».
При встрече с Горьким [тот] заговорил о ложном положении совести в наше время. Он не поддержал разговора.
«Пожары, вызванные бомбежкой, демонически красивы». Был бесстрашен, не прятался в убежища. (Лето 1941 года.)
При сообщениях о перемене имен вспоминал строки Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…»[356]
Марина Цветаева и Ахматова — «крылатые». Но у Ахматовой есть прищур лукавый, у Марины — разлившийся примус — «Кольцо Нибелунгов».
«Измучен, страдаю бессонницей, терплю невыносимо».
«Мне прежде всего нужно обеспеченье семьи, создание жизни близким. Я — должен».
Из неприятных отзывов о нем.
Иван Грузинов: «Бесшабашный поток слов. Всегда всё — вдруг. Все построено на навязчивых ассоциациях, вроде: кучер — прикручен».
Владимир Кириллов: «В литературных обществах его не любят: стихи не запоминаются, а это плохой показатель».
Голос в толпе: «Как его зовут? Этот поэт — овощь, он модный, я его не обожаю».
«Речь Пастернака в газете — чушь».
Шкловский: «Он всадник и его лошадь»[357].
У Б. Л. много поклонников среди молодых людей, из них значительная часть шизофреников. Назову Константина Богатырева [358], сына известного слависта. Он приходил и подолгу нудно сидел.
Приятно ему было поклоненье Антокольского, писавшего в своей статье: «Так живет и работает среди нас этот изумительный лирик, каждое стихотворенье которого — зерно эпопеи»[359].
Официальные круги заставляли его «раскаиваться» в ненародности произведений. Такое пригнутие он перенес. Но независимо от того сам пришел к перемене речи в сторону большей простоты.
«Одно время думал бросить творчество, служить, как все. Был длительно и мучительно недоволен собой, — все [сам], да сам, подчеркивал свои недостатки, ездил к друзьям искать моральной поддержки, советоваться — что делать?»
«Был в Париже, там, как и в Москве, читал Эдгара По, и это было главным». Его собратьями оказывались: Лермонтов, Байрон, Эдгар По.
«Как много новых писательских имен развелось! Их и не запомнишь».
На одном из литсобраний вразумляли и распинали неугодившего товарища. Обвинения в таких случаях бывают часто курьезно-фантастичны. Б. Л. присутствовал и молчал. Когда его всё же заставили высказаться, он произнес: «Да, я тоже видел, как ночью он вылетел из трубы на помеле и помчался в неизвестном направлении. На спине у него был туго набитый рюкзак».
«Меня тянут в религиозные сферы, но я пока плохо поддаюсь».
«Из молодых — Мария Петровых»[360].
В критических статьях Б. Л. не любил говорить «я», предпочитал местоименье «мы». Не умел произносить речи, высказывался сумбурно, бессвязно, тяготился ограничительностью жизни. В нем всегда жил порыв:
«О, на волю, на волю!»[361]
Устраивая стихи В. Мониной в архив после ее кончины [362], я обратилась к Б. Л. с просьбой написать сопроводительный отзыв о ней. Он колебался, звонил И. Н. Розанову, брал на дачу читать стихи В. М., но ничего не написал. Очевидно, муза поэтессы его уже не удовлетворяла в свете новых его требований, хотя он и прибавлял: «С другой стороны, я помню ее». Трогательный образ В. М. не создал оценки ее творчества.
«Читал Марселя Пруста. Боюсь его».
«Почему всегда так несоответственно бывает? Вы должны были бы петь на сцене, а работаете в школе беспризорных».
Принес Варваре Мониной деньги, зная ее голодную нужду с двумя бобровскими дочками, положил на стол и ушел.
«Бывал на Разгуляе [363]. Ходил здесь ночью с Сергеем Дурылиным[364]. Золотарики проезжали».
Нежно любил дочь своей возлюбленной, Ивинской, Ирочку, не одобрял вывихнутого ее сына, Дмитрия [365].
Любил пушистого кота на даче, называл его Боярин.
Очень плакал у его гроба Святослав Нейгауз [366], больше двух родных сыновей [367].
Когда Б. Л. был уже совсем плох, не мог подниматься, к нему пришел Константин Федин [368] и предложил написать заявление о вступлении в члены Союза писателей. Тогда его похоронят с почестями, как признанного советского писателя. Б. Л. собрал последние силы и ответил: «Я из членов Союза писателей не выходил и потому вступать в него не буду»[369].
Встретил как-то в трамвае Анну Ходасевич и удивленно спросил: «Как? Разве Вы не умерли?»
Его подпись была одной из первых под газетными некрологами Андрея Белого и Георгия Чулкова. Некрологи были составлены очень обстоятельно с большим знанием творчества, проникнуты высоким уважением.
Ходил быстро, решительно, твердой поступью. Таким оставался все сроки жизни. Не седел. Почерк был летящий, стремительный, разборчивый. Когда он сидел у меня в комнате, кресло под ним подпрыгивало, казалось, проносится вихрь.
Был смел. Не был призван на военную службу, т. к. в юности упал с лошади и повредил ногу. Работал на фронте военным корреспондентом. Метко стрелял.
В больницу, где он лежал с инфарктом, ему приносили вкусную еду. Он раздавал окружающим.
«Как Ваши личные дела? Я последние годы живу на тугом поводу». (Первый брак.)
«Не провожайте меня до двери, Вы простудитесь, холодно».
Говорил по телефону со Сталиным. Его спросили: «Чего Вы хотите?» — «Переводить Шекспира»[370]. — «Пожалуйста». Так он стал принцем Госиздатским.
Когда читал аудитории перевод «Генриха IV», сам в соответствующих местах хохотал и задумывался. Смотрел сосредоточенно вдаль. Говорил: «Хамский разговор Гамлета с Офелией».
Были и такие мнения о нем: «За перевод „Фауста“[371] Пастернака надо казнить».
Я отмечала звуковую какофонию его строк: «Пойдем в кабак к гулякам»; «Здоровье б поберечь»; «Ах, херувим». Он, очевидно, не замечал сшиба согласных.
Выслушав плохие стихи, не порицал, но молчал или заговаривал о другом.
Всегда сам порицал свои недостатки, порицал неверный поступок.
Был простодушен, не мог разобраться в каверзах Сергея Боброва, которыми тот его опутывал.
«Завел было дружбу с грузинскими поэтами, особенно с Тицианом Табидзе [372], а, глядь, их уж нет!»
Сказал при встрече с Димой [373]: «Ольга Мочалова — крупный поэт». А ведь он меня мало знал.
Высоко оценил возвращенного из ссылки Варлама Шаламова: «Какие сильные строфы»[374].
Прослушав чтенье стихов Георгия Оболдуева, обнял и расцеловал его. И Георгий Николаевич не понял — одобренье ли это или сожаленье?
«Когда Вы мне позвонили, я проходил по коридору, только потому и услышал звонок. Я один в квартире, все на даче, лежу с мучительным прострелом, приступом радикулита, спасибо, помощи не надо, я справлюсь».
«Я посмотрел переводы Маршака сонетов Шекспира [375]. Вижу, он соблюдает не точность, а поэтический смысл, и сам стал переводить так же».
Как-то Юрий Верховский прочел мне 5 переводов разных авторов одного и того же стихотворения какого-то республиканского поэта. Переводили: Верховский, Казин [376], Пастернак и кто-то еще. Переводили с подстрочника. Может быть, другие и были точней, но перевод Б. Л. оказался самым красивым, весь из горячих красок, смелых штрихов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах"
Книги похожие на "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах"
Отзывы читателей о книге "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах", комментарии и мнения людей о произведении.