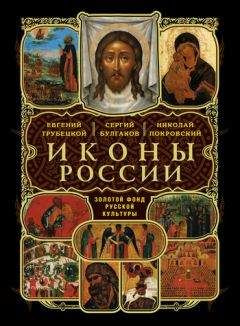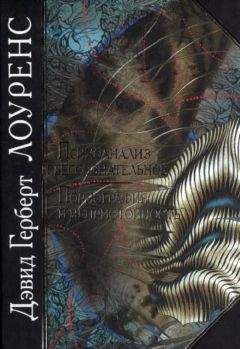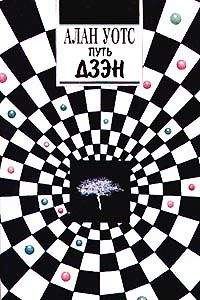Дайзетцу Судзуки - Дзен-буддизм и психоанализ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Дзен-буддизм и психоанализ"
Описание и краткое содержание "Дзен-буддизм и психоанализ" читать бесплатно онлайн.
Дзен-буддизм возник на Востоке, психоанализ — на Западе. На первый взгляд, между двумя диаметрально-противоположными системами, порожденными различными цивилизациями, не может быть ничего общего. Однако начиная с 30-х годов нашего столетия последователи психоанализа все чаще и чаще обращают свои взоры к дзен-буддизму, а к концу 50-х многие становятся его увлеченными сторонниками. Это произошло, вероятно, потому, что в центре внимания обеих систем — Человек; в одном случае его психическое, а в другом — духовное здоровье. Точки соприкосновения дзен-буддизма и психоанализа очевидны, о чем свидетельствует эта книга. Своим появлением она обязана симпозиуму, посвященному проблемам взаимоотношений дзен-буддизма и психоанализа, который был проведен в Автономном национальном университете в г. Мехико.
Вторым аспектом действия фильтра является логика, направляющая мышление людей данной культуры. Подобно тому как в большинстве своем люди считают, что их язык «естественный», а другие языки лишь выражают то же самое другими словами. Точно так же они полагают, что правила, определяющие их мышление, естественны и универсальны и алогичное в одной культурной системе будет алогичным и в другой, поскольку вступает в конфликт с «естественной» логикой. Хорошим примером может служить различие между аристотелевской логикой и логикой парадоксальной.
Аристотелевская логика базируется на законе тождества, утверждающего «А есть А», законе непротиворечия («А не есть не-А») и законе исключенного третьего (А не может быть А и не-А одновременно; либо А, либо не-А). Аристотель утверждает: «Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении… это, конечно, самое достоверное из всех начал»[43].
Логике Аристотеля противостоит так называемая парадоксальная логика, которая предполагает, что А и не-А не исключают друг друга как предикаты X. Парадоксальная логика господствовала в китайской и индийской мысли, в философии Гераклита, а затем под именем диалектики у Гегеля и Маркса. Общий принцип логики парадокса ясно описан у Лао-цзы: «В точности верные слова кажутся парадоксом»[44]. А также Чжуан-цзы: «То, что одно — одно. То, что не одно — тоже одно».
Пока личность живет в культуре, в которой не ставится под сомнение аристотелевская логика, чрезвычайно трудно, если не невозможно, осознавать противоречащий этой логике опыт, который для нее является бессмысленным. Хорошим тому примером может служить термин «амбивалентность», введенный Фрейдом для передачи одновременного переживания любви и ненависти к одному и тому же лицу и в то же самое время. Этот вполне «логичный» с точки зрения парадоксальной логики опыт не имеет смысла с точки зрения аристотелевской логики. Поэтому большинству людей необычайно сложно осознавать амбивалентные чувства. Если они отдают себе отчет в любви, то безотчетна ненависть — так как было бы в высшей степени нелепо иметь два противоположных чувства одновременно к одному и тому же лицу[45].
Третьим аспектом работы фильтра, помимо языка и логики, является содержание опыта. Каждое общество исключает определенные мысли и чувства, не дает им выразиться. Имеются вещи, которые не только «не делаются», но даже и «не думаются». В воинственном племени, члены которого живут убийством и грабежом других племен, может родиться индивид, чувствующий отвращение к убийству и разбою. Но крайне маловероятно, что это чувство дойдет до его сознания, поскольку оно не совпадало бы с чувствами всего племени; осознание такого несовместимого с общепринятыми нормами чувства означало бы для отступника угрозу полной изоляции и остракизма. Поэтому у индивида с подобным чувством отвращения вполне может развиться психосоматический симптом типа рвоты, замещающий чувство отвращения и препятствующий его осознанию.
Противоположной будет ситуация жителя мирного сельского племени, у которого сильны импульсы к убийству и разбою, направленные на членов других групп. Вероятно, он также не позволит самому себе осознать эти побуждения, но вместо них у него разовьется какой-то определенный симптом — возможно, интенсивное чувство страха. Приведу еще один пример. Наверное, есть немало владельцев лавок в наших больших городах, которые сталкиваются с посетителями, испытывающими нужду, скажем, в одежде, но у которых нет денег на покупку даже самых дешевых вещей. Среди лавочников найдется какое-то число тех, кто наделен естественным человеческим стремлением — отдать костюм покупателю за ту цену, которую тот может заплатить. Но многие ли из них могут позволить себе осознание подобного стремления? Думаю, что очень немногие. Большинство будет подавлять его, и мы без труда обнаружим у них либо известную агрессивность по отношению к посетителям, скрывающую бессознательный импульс, либо сновидения, которые его выражают.
Тезис о наличии несовместимого с социально допустимыми нормами содержания психики, которому закрыт вход в царство сознания, ставит два вопроса. Почему некое содержание опыта несовместимо с данным обществом? Более того, почему индивид так боится отдать себе отчет в подобном запретном содержании опыта?
Отвечая на первый вопрос, я должен обратиться к понятию «социального характера». Для того чтобы выжить, любое общество формирует характер своих членов таким образом, чтобы они хотели делать то, что они должны делать: выполняемая ими социальная функция должна быть интериоризирована, превращена в нечто, ощущаемое как влечение к действию, а не просто обязанность. Общество не может допустить какое-либо отклонение от образцов, поскольку стоит социальному характеру утратить свою цельность и жесткость, как многие индивиды перестанут действовать так, как от них того ожидают. А это представляет угрозу для выживания общества в данной его форме. Конечно, общества различаются по своей жестокости, ригидности, с которой они навязывают свойственный им социальный характер и табу, его охраняющие. Но табу, нарушение которых ведет к остракизму, имеются во всех обществах.
Второй вопрос заключается в том, почему индивиды настолько боятся этой угрозы остракизма, что не позволяют себе даже осознать «запретные» побуждения. Для ответа на этот вопрос мне следует сослаться на те работы, в которых эта тема получила более полное развитие[46]. Коротко говоря, индивид, если только он не впал в безумие, должен так или иначе соотносить себя с другими людьми. Полный разрыв отношений приводит его на грань сумасшествия. В той мере, в какой он является животным, индивид более всего боится смерти, тогда как в той мере, в какой он является человеком, он более всего боится полного одиночества. Этот страх, а не страх кастрации, как то предполагал Фрейд, служит эффективным средством, не допускающим до сознания запретные чувства и мысли.
Таким образом, мы приходим к выводу о социальной обусловленности сознания и бессознательного. Я отдаю себе отчет во всех дозволенных чувствах и мыслях, беспрепятственно проходящих через тройной фильтр социально обусловленных языка логики и табу (социального характера). Переживания, которые не проникают сквозь фильтр, остаются безотчетными, то есть бессознательными[47].
Нужно сделать два уточнения в связи с тем акцентом, который мы ставим на социальной природе бессознательного. Первое из них совершенно очевидно: помимо социальных табу существуют индивидуальные их вариации в разных семьях. Ребенок боится, что родители «покинут» его в том случае, если он осознает опыт, который они лично для себя считают табуированным. Поэтому в дополнение к нормальной для данного общества репрессии им подавляются и те чувства, которые не проходят через семейный фильтр. С другой стороны, более открытые миру родители, наделенные меньшей «репрессивностью», делают посредством своего влияния социальный фильтр (и Сверх-Я) менее жестким и менее непроницаемым.
Второе уточнение относится к более сложному феномену. Мы подавляем не только те стремления, которые несовместимы с социальными образцами мышления. Мы также склонны к репрессии стремлений, несовместимых с принципом организации и роста целостного человеческого существования, с «человеческой совестью» — с тем голосом, который представляет интересы полного развития нашей личности.
Деструктивные импульсы или побуждения к возврату в материнское лоно, к смерти, стремление поедать тех, кто мне близок, — все эти и многие другие побуждения могут совпадать или не совпадать с социальным характером. Но они ни при каких обстоятельствах не совпадают с внутренними целями эволюции человеческой природы. Нормально, когда ребенок хочет, чтобы его кормили с ложки — это соответствует той стадии эволюции, на которой он находится. Если те же стремления обнаруживаются у взрослого, то он болен. А так как такой индивид зависим не только от прошлого, но и от внутренне присущей ему цели, то он ощущает раскол между тем, что он есть, и тем, чем ему следовало бы быть. «Следовало» употребляется здесь не в моральном смысле, не как приказание, но в смысле имманентных целей эволюции, присущих ему точно так же, как его физический облик, цвет глаз и иные черты, «записанные» в его хромосомах.
Если человек утрачивает контакт со своей социальной группой, он опасается полной изоляции и в силу этого страха не решается мыслить «немыслимое». Но он страшится также отрыва от той человечности, которая находится внутри его и представлена его совестью. Стать совершенно бесчеловечным тоже страшно, хотя, как показывают свидетельства истории, это менее страшно, чем пойти на социальную изоляцию в обществе, которое приняло бесчеловечные нормы поведения. Чем ближе общество к гуманным нормам жизни, тем меньше конфликт между социальным остракизмом и разрывом с человечностью. Чем больше конфликт между социальными и общечеловеческими целями, тем более разрывается индивид между двумя опасными полюсами изолированности. Чем выше уровень солидарности с общечеловеческими началами, достигнутый благодаря интеллектуальному и духовному развитию личности, тем легче ей выносить социальный остракизм, и наоборот. Способность действовать по совести зависит от степени преодоления границ собственного общества, от того, насколько человек стал гражданином мира, «космополитом».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дзен-буддизм и психоанализ"
Книги похожие на "Дзен-буддизм и психоанализ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дайзетцу Судзуки - Дзен-буддизм и психоанализ"
Отзывы читателей о книге "Дзен-буддизм и психоанализ", комментарии и мнения людей о произведении.