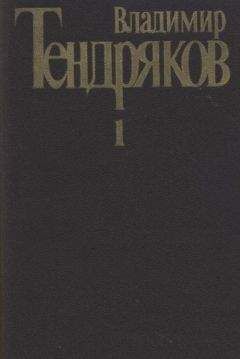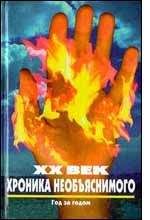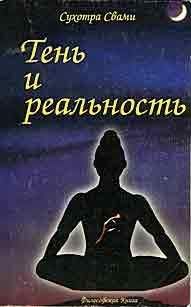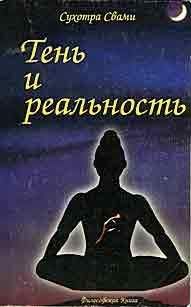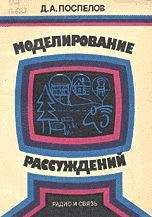Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Описание и краткое содержание "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе" читать бесплатно онлайн.
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный. Автор рассматривает самые разные аспекты творчества поэта — философскую и историческую проблематику, физиологию и психологию восприятия визуальных и вербальных образов, дискурсивные практики, оккультные влияния, интертекстуальные «переклички», нарративную организацию текста.
Переход с одного уровня на другой реализуется с помощью инстанций актора, фокализатора и нарратора: если «актор, пользуясь действием как материалом, делает из него историю, то фокализатор, отбирая действия и выбирая угол зрения, под котором он их представляет, организует из них рассказ, а рассказчик претворяет рассказ в слова, делая из них повествовательный текст. В теории каждая инстанция обращается к получателю, расположенному на том же уровне: актор обращается к другому актору, фокализатор к „зрителю“ — косвенному объекту фокализации, а нарратор к гипотетическому читателю»[650].
В качестве фокализатора Безобразов лишен конкретного содержания, но как персонифицированная функция в тексте все же зафиксирован. О нем можно сказать то же, что сказал Поль Валери о господине Тэсте, а именно что Тэст существует, пока стоит вопрос о его существовании.
В тексте главы есть еще один крайне интересный фрагмент, в котором Безобразов играет совершенно особую роль. Течение событий вдруг странным образом «приостанавливается», внутри истории образуется что-то вроде черной дыры, куда «проваливаются» остальные персонажи, «отдаленно, как домик в бутылке, бал шумит в ином измерении» (Аполлон Безобразов, 68) и неожиданно открывается новая, мистическая реальность, в которой Тереза (у нее есть и русское имя Вера) оборачивается ибсеновскими героинями Сольвейг и Ингрид[651]: «И все пило, пело, дралось и плакало, и полная до края чаша бала кипела и проливалась рвотой, как сердце танцоров, готовое разорваться от усталости, но что-то случилось с Терезой, и вся зала вдруг протрезвела и приумолкла». И далее рассказчик обращается к Терезе:
Ингрид, о чем смеешься ты? Ты танцевала со всеми и всех целовала. О Ингрид, что значит такое веселье? Не то ли, что скоро нам будет, как прежде, в снегу без надежды, во тьме любви?
О Сольвейг! Ты к узкой и слабой груди прижимала случайного друга, что вьюга отнимет, что минет, как вьюга. О Ингрид! О Сольвейг! О Вера, Тереза, Весна (Аполлон Безобразов, 73).
Затем монологический дискурс рассказчика сменяется диалогом, в котором участвуют несколько голосов: это «голос из музыки» (он же «голос с балкона», помещенный, как и у Ватто, на периферию сценического пространства), голоса Терезы-Веры, Аполлона и «грешников в музыкальном аду». Для Поплавского «принятие музыки есть принятие смерти» (Неизданное, 98), и нетрудно предположить, что музыка, из которой звучит голос, это трагическая музыка конца. Голос призывает Веру вернуться из хаотической сферы земной жизни, метафорой которой является бал, в сферу смерти и покоя, ассоциируемую с пространством христианского монастыря[652]:
«Голос из музыки: „О! Ингрид, чему веселишься ты? Или солнце взошло, как в новой церкви, где еще пахнет краской. А там за стеною, Ингрид, что там за стеною?“»
И Вера отвечает:
Сумрак бежит от очей. Мчится сияние свечей. Все нежно, все неизбежно. Смейся, пустыня лучей. Песок кружится, несется снег, и тень ложится на краткий век. Кто там говорит на балконе?.. Цветы уходят в свои лучи… Нам не нужно ни счастья, ни веры.
К призыву «голоса из музыки» присоединяется и рассказчик:
Ингрид, вернись. За высокою белой стеною колокол тихо мечтает в святой синеве, и тихонько слетают, наскучась вышиною, золотистые листья к холодной и твердой земле. Ингрид! Венчание в соборе, все святые и ангелы в сборе. Все святые и ангелы боли ждут Тебя в поле.
Однако Вера как будто его не слышит:
Звуки рождаются в мире, в бездну их солнце несет, здесь в одеянии пыли музыка смерти живет. Кто их разбудит, кто их погубит? С ними уйду, с ними умру (Аполлон Безобразов, 73–74).
Рассказчик слишком явно выступает на стороне «голоса из музыки», чтобы не заподозрить его в том, что именно он и является этим голосом. Дискурс нарратора и «голос из музыки» переплетаются настолько тесно, что только прямое указание в тексте на субъекта говорения позволяет формально, но не содержательно отделить одного от другого. «Делегирование» нарратором своего дискурса «голосу из музыки» позволяет ему установить контакт с актором истории. В самом деле, гетеродиегетический нарратор[653], обращаясь к Вере, которая, в отличие от него, является фигурой диегезиса, не может естественным образом претендовать на установление коммуникации с нею; если же он становится гомодиегетическим (диегетическим) нарратором, то, будучи фигурой диегезиса (голосом из музыки), может получать от адресата (Веры) реакцию на обращенную к ней реплику.
Та позиция, которую занимает в данном фрагменте Безобразов, подтверждает его общий двусмысленный нарративный статус. С одной стороны, он, как и Вера, имеет статус актора истории, хотя, в отличие от нее, актором в полной мере не является (см. выше анализ фрагмента, в котором описывается позиция Аполлона во время бала); с другой, он выступает в роли «видящего агента», с точки зрения которого коммуникация между Верой и гомодиегетическим нарратором является чистой фикцией:
Голос из музыки, слабея: «Ингрид, Ингрид, где мир Твой, где свет Твой?»
Вера: «Нам не нужно ни счастья, ни веры. Мы горим в преисподнем огне. День последний, холодный и серый, скоро встанет в разбитом окне». Кричит: «Закройте окно. Забудьте детство».
Аполлон Безобразов: «Полно, Вера, никто не стоит на балконе, и окна закрыты. Смотрите, и музыка прекратилась».
Вера: «Нет, музыка не прекратилась, она только замерла и ждет, чтобы он[654] ушел» (Аполлон Безобразов, 73).
Аполлон выступает в роли «фигуры в тексте», самим фактом своей включенности в этот текст обнажающей сугубую его фикциональность. Постмодернистская «сконструированность» фигуры Безобразова, о которой говорилось в главе «„Поэзия — темное дело“», предопределяет ее функцию в романе, которая, в частности, состоит в том, чтобы обнажить искусственность, «выдуманность» истории, ее зависимость от литературных источников:
Аполлон Безобразов: «Полноте, Вера, нет ни балкона, ни музыки, ни меня, ни вас. Есть только солнце судьбы в ледяной воде и световые разводы в ней. Знаете, такие разноцветные разводы, которые бывают в утомленных глазах, долго склоненных над книгой…» (Аполлон Безобразов, 73–74; курсив мой. — Д. Т.).
* * *Итак, структурные особенности главы «Бал», то, как организуется в ней зрительная перспектива и собственно наррация, и то, как происходит декодирование словесных знаков Аполлоном Безобразовым, обладающим неким личным иконическим кодом, позволяют говорить о том, что глава, и в особенности ее второй сегмент, посвященный описанию бала, должны анализироваться с учетом способов организации визуального репрезентативного пространства, присущих произведениям изобразительного искусства. О том, что Поплавского занимали проблемы соотношения визуального и вербального кодов, говорит и эпиграф к главе, и место действия — художественная академия — и непосредственная отсылка в тексте к конкретному полотну — картине Ватто «Паломничество на остров Киферу»[655], ставшей для Поплавского своего рода моделью построения пространства репрезентации, в котором визуальный элемент играет важную роль.
Один из фрагментов главы начинается следующим образом:
О порочное и отдохновенное танцевальное действо. Ты действительно сперва глохнешь и бестолково прозябаешь, как вдруг какой-нибудь отчаянно веселый, ласковый возглас или звон разбитого стакана как будто подаст неведомый сигнал к отплытию, и ты, вместе с раскрасневшимися пассажирами, отчалишь, двинешься, наконец, к Цитерину острову под мерные пульсации музыкального своего двигателя (Аполлон Безобразов, 61).
Примечательно, что Поплавский транслитерирует французское написание названия острова, как и Георгий Иванов, в 1912 году выпустивший сборник стихов «Отплытье на о. Цитеру»[656]. Миф об острове любви был чрезвычайно распространен в XVII и XVIII веках и послужил источником для многочисленных театральных, литературных (упомяну только «Путешествие на остров любви» Поля Тальмана и «Карту королевства нежности» Мадемуазель де Скюдери, приложенную к роману «Клелия, или Римская история»), музыкальных (например, «Карильона Киферы» Куперена) и живописных произведений; среди последних особое место занимают три картины Ватто: «Остров Кифера» (около 1710 г., Франкфурт, Институт искусств), «Паломничество на остров Киферу» (1717, Париж, Лувр) и «Отплытие на остров Киферу» (1718, Берлин, Шарлоттенбург). Название последней картине было дано по названию эстампа Николя-Анри Тардье и по инерции употреблялось и в отношении второй картины с этим сюжетом, известной сейчас как «Паломничество на остров Киферу». До того, как вышло исследование Майкла Ливи «Истинный сюжет „Отплытия на Киферу“ А. Ватто»[657], считалось, что художник изобразил отплытие паломников на остров Венеры; Ливи же показал, что речь идет об отплытии с острова. Об этом свидетельствуют как присутствие на полотне гермы Венеры, увитой гирляндами роз (значит паломники уже принесли богине свои дары), так и некоторые символические жесты ангелочков-путти, один из которых положил свой колчан со стрелами к подножию статуи, а другой, кружась над ладьей, несет горящий факел, символизирующий огонь любви. Многие современные искусствоведы согласны с этим мнением. Таким образом, модальность картины оказывается совершенно иной, нежели представлялось ранее: меланхолическая процессия паломников покидает остров любви и «галантное празднество» приближается к финалу[658]. Ж. А. Плакс говорит в связи с этим о нарративной прогрессии, особенно очевидной в отношении трех влюбленных пар, изображенных на холме в непосредственной близости от статуи Венеры: «Ватто постоянно напоминает о завершении, отъезде, о том, что желание связано со смертью, — заключает критик, — и делает он это не только для того чтобы выразить некое настроение, но и для того чтобы показать, какой глубокий резонанс создается между мифическим „галантным празднеством“ и тем, что чувствует человек на этом празднестве»[659]. По словам М. Роллан Мишель, персонажей Ватто можно идентифицировать только по той позиции, которую они занимают в шествии, поскольку в остальном они совершенно взаимозаменяемы[660].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Книги похожие на "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Отзывы читателей о книге "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе", комментарии и мнения людей о произведении.