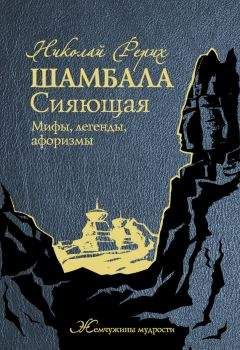Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Описание и краткое содержание "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов" читать бесплатно онлайн.
Первый том Собрания сочинений М. М. Бахтина — это начало пути мыслителя. В томе публикуются его ранние философские работы, не печатавшиеся при жизни автора. Первые посмертные публикации этих работ (в 1975, 1979 и 1986 гг.) были текстологически несовершенными; для настоящего издания их тексты заново подготовлены по рукописям, уточнены и восполнены новыми фрагментами, не поддававшимися прочтению. Три капитальных ранних труда М. М. Бахтина предстают в восстановленных, по существу, — новых текстах. Как и в уже вышедших ранее томах (5, 2 и 6-м) Собрания сочинений, тексты работ обстоятельно комментируются. Тексты сопровождаются факсимильным воспроизведением листов рукописей М. М. Бахтина.
В лирике автор наиболее формалистичен, т. е. творчески растворяется во внешней звучащей и внутренней живописно-скульптурной и ритмической форме, отсюда кажется, что его нет, что он сливается с героем, или наоборот, нет героя, а только автор. На самом же деле и здесь герой и автор противостоят друг другу и в каждом слове звучит реакция на реакцию. Своеобразие лирики в этом отношении и ее объективность мы здесь еще обсуждать не можем. Теперь же мы вернемся к интонативной структуре нашей пьесы. Здесь в каждом слове звучит двойная реакция. Нужно иметь раз и навсегда в виду, что реакция на предмет, его оценка и самый предмет этой оценки не даны как разные моменты произведения и слова, это мы их абстрактно различаем, в действительности оценка проникает предмет, более того, оценка создает образ предмета, именно формально-эстетическая реакция сгущает понятие в образ предмета. Разве наша пьеса исчерпывается в первой ее части тоном скорби разлуки, реалистически пережитой, эти реалистически-скорбные тона есть, но они охвачены и обволакиваются воспевающими их совсем не скорбными тонами: ритм и интонация — «в час незабвенный, в час печальный, я долго плакал над тобой» — не только передают тяжесть этого часа и плача, но и вместе и преодоление этой тяжести и плача, воспевание[175] их; далее живописно-пластический образ мучительного прощания: «мои хладеющие руки», «мой стон молил не прерывать…» — вовсе не передает только мучительность его: эмоционально — волевая реакция действительного мучительного прощания никогда из себя не может породить пластически-живописный образ, для этого эта мучительная реакция сама должна стать предметом отнюдь не мучительной, а эстетически милующей реакции[176], т. е. этот образ построяется не в ценностном контексте действительно расстающегося. Наконец, и в последних строках: «исчез и поцелуй свиданья…» — тона действительного ожидания и веры героя в предстоящий поцелуй объемлются ничего не ждущими, а вполне завершенно успокаивающими в настоящем тонами, действительное будущее героя становится художественным будущим для автора — творца формы. Кроме того, как мы уже раньше отметили, реакция героя в некоторые моменты сама объемлет реакцию героини, но ценностный контекст героя все же не достигает здесь полной самостоятельности.
Переходим теперь к теме нашей пьесы.
(Необходимо все время иметь в виду, что различаемые нами интонации реалистическая и формальная нигде не даны в своем чистом виде, даже в жизни, где каждое слово интонируется нами, эта интонация не бывает чисто реалистической, но всегда с некоторой примесью эстетической, чиста действительная познавательно-этическая реакция, но ее высказывание для другого неизбежно принимает в себя эстетический элемент, всякое выражение[177] — как таковое уже эстетично. Однако эстетический элемент здесь играет лишь служебную роль, и действительное направление реакции — реалистично. Сказанное распространяется и на формальную реакцию).
Итак, переходим к теме. Вследствие указанной уже особенности чистой лирики, почти полному совпадению автора и героя, чрезвычайно трудно выделить и формулировать тему, как определенное прозаически значимое положение или этическое обстояние. Содержание лирики обычно не конкретизовано (как и музыки), это как бы след познавательно-этического напряжения, тотальная экспрессия[178] — еще не дифференцированная — возможной <?> мысли и поступка, самое интеллектуальное и волевое усилие напряжения возможного познания и поступка. Поэтому формулировать тему должно чрезвычайно осторожно, и всякая формулировка будет условна, не будет выражать адекватно действительный прозаический контекст. Здесь мы и не имеем в виду устанавливать этот действительный прозаический контекст, для этого пришлось бы учесть биографическое событие (этическое) одесской любви Пушкина и ее отзвуки[179] в последующее время, учесть соответствующие элегии 23 и 24 года, другие произведения 30 года и прежде всего «Заклинание», учесть литературные источники обработки темы — в ее широкой формулировке — любви и смерти, и прежде всего Барри Корнуола[180], которые обусловили непосредственно близкое по теме стихотворение «Заклинание» и целый ряд других хронологически близких произведений, наконец всю биографическую и духовную обстановку 30 года[181] (предстоящий брак и пр.). Не подлежит сомнению, что этическая идея «верности», в связи с биографической обстановкой, занимала одно из центральных мест в познавательно-этической жизни автора в Болдине («Рыцарь бедный», «Прощание» и пр., «Каменный Гость»)[182]. Причем для освещения прозаического контекста лирики существенное значение имеют не лирические произведения автора, где прозаическая идея всегда отчетливо выражена. Подобная работа совершенно не входит в круг нашей задачи, нам важен лишь общий момент инкарнации[183] лирической темы художественному целому, поэтому наша формулировка не может претендовать быть строго во всех моментах обоснованной. Инкарнируемая тема: любовь и смерть — осложнена и конкретизована частной <?> темой «обещание и исполнение»: обещание свидания с любимой будет исполнено, хотя на дороге и стала смерть, в вечности. Эта тема инкарнирована через образ «поцелуя свиданья»: обещанный поцелуй свиданья («уста для страстного лобзанья мы вновь… соединим»), умерший поцелуй («исчез и поцелуй свиданья»), воскресший поцелуй («жду его, он за тобой»); тема конкретизована синекдохически[184]. Тема чисто этическая, но она лишена своего этического жала, закрыта образом поцелуя — это центральный тематический образ. Заданы <?> моменты этического события любви и загробного свидания с любимой и связанных с ними этических поступков: верность, очищение и пр., которые вошли, эстетически перерожденные, в лирику Данте[185], действительное абсолютное предстоящее событие в действительном будущем разложило бы образную и ритмическую завершенность целого. Действительные вера и надежда (они могли бы и быть в душе автора, Пушкина, только биография его делает это предположение сомнительным, та же тема у Жуковского)[186] на предстоящее свидание, если бы только они одни были (т. е. если бы автор абсолютно совпадал со своим героем), не могли бы породить из себя ничего завершенного и самодовлеющего, помимо действительного будущего — вопреки смысловому будущему, эти завершающие моменты привнесены из иной эмоционально-волевой установки по отношению к событию в целом, которая отнесла это событие к данным его участникам, сделала ценностным центром не предмет этого переживания <и> стремления (действительное загробное свидание), а само это переживание и стремление к предмету, с точки зрения ценностного его носителя — героя. Нам совершенно не нужно знать, действительно ли получил Пушкин загробный поцелуй (познавательно-историческая ценность <?>), не нужно <1 или 2 нрзб.> философского, религиозного или этического обоснования возможности и необходимости загробной встречи и воскресения (бессмертие, как постулат истинной любви)[187], событие всецело завершено и разрешено для нас; хотя прозаический анализ[188] мог бы и должен был бы философски-религиозно углубить эту тему в соответствующем направлении: ведь постулирование любовью бессмертия, онтологическая сила памяти вечной («кто не забыл не отдает», «тот дар, что Бог назад берет, упрямым сердцем не утрачен»)[189] — одна из глубочайших тем эротической лирики всех времен (Данте, Петрарка, Новалис, Жуковский, Соловьев, Иванов и др.)[190]. Это завершение бесконечной, напряженной, всегда открытой философской темы и возможного этического поступка-жизни совершается через отнесение события — заданным смыслом которого она является — к данному человеку-герою автором, причем этот герой-человек может совпадать с автором-человеком, что почти всегда и имеет место (действительное этическое событие жизни лежит в основе <2 нрзб.> как лирически разрешаемая тема), но герой произведения никогда не может совпадать с автором-творцом его, в противном случае мы не получим художественного произведения. Если реакция автора сливается с реакцией героя — ведь это иногда <?> может быть так <?> познавательно-этически, — она направляется непосредственно на предмет и смысл, автор начинает познавать и поступать вместе с героем, но теряет художественное завершающее видение его; мы увидим, что до известной степени это часто случается. Реакция, непосредственно относящаяся к предмету, — а следовательно и интонация высказывания — не может быть эстетически продуктивной, но лишь познавательно и этически, эстетическая реакция есть реакция на реакцию, не на предмет и смысл сами по себе, а на предмет и смысл для данного человека, соотнесенные ценностям данного человека. В нашей пьесе через лирического героя сплошь <?> инкарнирована познавательно-этическая тема, вера и надежда <3 нрзб.>. Что же это за герой и каково отношение к нему автора? Об этом здесь лишь несколько предварительных замечаний. Начнем с отношения, ибо творческое отношение и определяет предмет; отношение автора к лирическому герою здесь чисто и непосредственно формально-эстетическое: познавательно-этическое, ценностно-окрашенное переживание героя — его предметная реакция — здесь непосредственно является предметом чисто эстетической, формирующей, воспевающей реакции автора, можно сказать, что переживания героя здесь непосредственно отлиты в образ и ритм, поэтому и кажется, что нет автора или нет героя, — одно ценностно переживающее лицо. Между тем, как мы далее подробно увидим, в эпосе, особенно в романе, а иногда и в лирике (Гейне) герой и его переживание, его предметная эмоционально-волевая установка в ее целом не непосредственно отливается в чистую эстетическую форму, а получает предварительно познавательно-этическое определение от автора, т. е. автор, прежде чем реагировать на них непосредственно эстетически-формально, реагирует познавательно-этически, а уже затем познавательно-этически определенного героя — морально, психологически, социально, философски <2 нрзб.> и пр. — завершает чисто художественно, и это даже там, где герой глубоко автобиографичен, притом это познавательно-этическое определение героя носит всегда глубоко заинтересованный, интимно-личный характер; таковы типы, характеры[191]. Это познавательно-этическое определение настолько тесно и глубоко связано с последующим эстетическим оформлением, что даже для абстрактного анализа они почти не различимы, здесь совершается почти непосредственно неуловимо для разума переход одной творческой точки зрения в другую. В самом деле: попробуйте отделить формально-художественный прием от познавательно-моральной оценки в героизации, в юморе, в иронии, в сатире, выделить чисто формально-художественный прием героизации, иронизации, юморизации — это не удастся никогда сделать <1 нрзб.>, да и не существенно для задачи анализа, неизбежно формально-содержательный характер его здесь с особенной очевидностью оправдывается. С другой стороны, в этих явлениях особенно отчетлива роль автора и живое событие его отношения к герою.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Книги похожие на "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Отзывы читателей о книге "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.