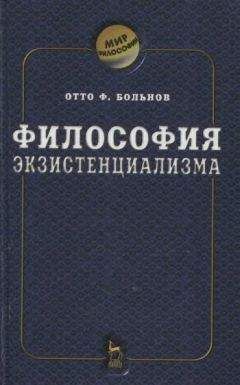Фридрих Ницше - По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего"
Описание и краткое содержание "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" читать бесплатно онлайн.
«По ту сторону добра и зла» — этапная работа Фридриха Ницше, которая знаменует перелом в мировоззрении и, шире, во всём строе мысли, мироотношении философа, наступивший после написания книги «Так говорил Заратустра», и предваряет заключительный, наиболее интенсивный период его творчества, отмеченный подведением философских итогов истории человечества и предчувствием духовных катаклизмов века XX. Не случайно работа имеет подзаголовок «Прелюдия к философии будущего». Ницше создаёт совершенно новый, невиданный в истории мировой философии тип произведения. Уже поколение, нарождавшееся в момент написания книги, и перешагнувшее порог XX столетия в момент своего духовного становления, воспринимало её как норму духовности — «некую тревожно гудящую сирену, врывающуюся в новый век предвестием чудовищных аварий во всех сферах жизни», пугающий «дар Кассандры». В книге — отчаяние и почти восторг, предчувствие, «как недалеко, как близко уже то время, когда будет иначе!», и вера в то, что найдутся адекватные иному способы мышления «по ту сторону добра и зла».
Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями; но три из них самые важные. Некогда жертвовали своему Богу людьми, быть может, именно такими, которых больше всего любили, — сюда относится принесение в жертву первенцев, имевшее место во всех доисторических религиях, а также жертва императора Тиберия в гроте Митры на острове Капри — этот ужаснейший из всех римских анахронизмов. Затем, в моральную эпоху человечества, жертвовали Богу сильнейшими из своих инстинктов, своей «природой»; эта праздничная радость сверкает в жестоком взоре аскета, вдохновенного «противника естества». Наконец, — чем ещё осталось жертвовать? Не пришлось ли в конце концов пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всякой надеждой, всей верой в скрытую гармонию, в будущие блаженства и справедливость? не пришлось ли пожертвовать самим Богом и, из жестокости к себе, боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу, Ничто? Пожертвовать Богом за Ничто — эта парадоксальная мистерия последней жестокости осталась поколению, которое растёт именно сейчас: мы все уже кое-что об этом знаем.
56Кто, подобно мне, с какой-то загадочной алчностью долго старался продумать пессимизм до самой глубины и высвободить его из полухристианской, полунемецкой узости и наивности, с которой он напоследок предстал в этом столетии, именно, в образе шопенгауэровской философии; кто действительно заглянул когда-нибудь азиатским и сверхазиатским оком в глубь и на дно этого образа мыслей, самого мироотрицающего из всех возможных, — заглянул с той стороны добра и зла, а не пребывая во власти и среди заблуждений морали, как Будда и Шопенгауэр, — тот, быть может, тем самым открыл для себя, помимо собственной воли, обратный идеал: идеал самого задорного, витального и жизнеутверждающего человека, который не только научился довольствоваться тем и мириться с тем, что было и есть, но хочет повторения всего этого так, как оно было и есть, во веки веков, ненасытно взывая da capo[34] не только к себе, но ко всей пьесе и зрелищу, и не к одному лишь зрелищу, а в сущности к тому, кто нуждается именно в этом зрелище — и кто делает его нужным; потому что он беспрестанно нуждается в себе — и делает себя нужным — — Как? Разве это не было бы — circulus vitiosus deus[35]?
57Вместе с силой духовного зрения и прозрения человека растёт даль и как бы пространство вокруг него: его мир становится глубже, его взору открываются всё новые звёзды, всё новые загадки и образы. Быть может, всё, на чём духовное око упражняло своё остроумие и глубокомыслие, было только поводом для его упражнения, игрушкой, чем-то, предназначенным для детей и детских головок. Быть может, самые торжественные понятия, за которые больше всего боролись и страдали, например понятия Бога и греха, покажутся нам когда-нибудь не более значительными, чем кажутся старому человеку детская игрушка и детская печаль, — и, может быть, тогда «старому человеку» опять понадобится другая игрушка и другая печаль, — и он окажется всё ещё в достаточной мере ребёнком, вечным ребёнком!
58Замечено ли, насколько для истинно религиозной жизни (а так же для её любимой микроскопической работы самоисследования, как и для того нежного, тихого настроя, который называется «молитвой» и представляет собою постоянную готовность к «пришествию Божьему») нужна внешняя праздность или полупраздность, — я разумею праздность с чистой совестью, исконную, родовую, которой не так уж чуждо аристократическое чувство, что работа оскверняет, — а именно, опошляет душу и тело? И что, следовательно, современное, шумливое, не теряющее времени даром, гордое собою, глупо гордое трудолюбие, больше, чем всё остальное, воспитывает и подготавливает именно к «неверию»? Среди тех, например, кто нынче в Германии живёт в стороне от религии, я встречаю людей, проникнутых «вольнодумством» самого разного вида и происхождения, но прежде всего множество тех, в ком трудолюбие, из поколения в поколение, уничтожило религиозные инстинкты, — так что они уже совершенно не знают, на что нужны религии, и только с каким-то тупым удивлением как бы регистрируют их наличие в мире. Они и так чувствуют себя изрядно обременёнными, эти бравые люди, и собственными делами, и собственными удовольствиями, не говоря уже об «отечестве», газетах и «семейных обязанностях»: у них, кажется, вовсе не остаётся времени для религии, тем более что им не ясно, идёт ли тут речь о новом гешефте или о новом удовольствии, — ибо невозможно, говорят они себе, ходить в церковь просто для того, чтобы портить себе доброе расположение духа. Они вовсе не враги религиозных обрядов; если в известных случаях, например, со стороны государства, требуется участие в таких обрядах, то они делают что требуется, как и вообще делают многое, — с терпеливой и скромной серьёзностью и без особого любопытства и недовольства: они живут слишком в стороне и вне всего этого, чтобы быть в душе «за и против» в подобных вещах. К этим равнодушным относится нынче большинство немецких протестантов средних сословий, особенно в больших торговых и транспортных центрах, где идёт кипучая работа; равным образом относится к ним большинство трудолюбивых учёных и весь университетский состав (исключая теологов, возможность существования которых в этом заведении задаёт психологу всё большее число всё более тонких загадок). Благочестивые или даже просто воцерковленные люди редко представляют себе, сколько доброй воли, можно сказать произвола, нужно нынче для того, чтобы немецкий учёный серьёзно отнёсся к проблеме религии; всё его ремесло (и, как сказано, ремесленное трудолюбие, к которому его обязывает современная совесть) склоняет его в отношении религии к сознающей своё превосходство, почти снисходительной весёлости, к которой подчас примешивается лёгкое пренебрежение в адрес «нечистоплотности» духа, предполагаемой им там, где ещё ходят в церковь. Лишь при помощи истории (а стало быть, не на основании своего личного опыта) учёному удаётся прийти в отношении религий к почтительной серьёзности и какому-то робкому уважению; но даже если его чувство возвысится до благодарности в отношении к ним, всё-таки он лично ни на шаг не подвинется ближе к тому, что ещё существует в виде церкви или благочестия, — скорее, наоборот. Практическое равнодушие к религиозным вещам, в котором он рождён и воспитан, обычно сублимируется в нём в осмотрительность и чистоплотность, которая страшится соприкосновения с религиозными людьми и вещами; и, быть может, именно глубина его терпимости и человечности велит ему уклониться от тех затруднительных коллизий, которые, бывает, влечёт за собою само проявление толерантности. — У каждой эпохи есть свой собственный божественный род наивности, и в том, что она его изобрела, другие эпохи ей могут только позавидовать. И сколько наивности, достопочтенной, ребячливой и совершенно бестолковой наивности в этой вере учёного в своё превосходство, в чистой совести его толерантности, в ни о чём не догадывающейся, простодушной уверенности, с которой его инстинкт смотрит на религиозного человека как на нестоящий и примитивный типаж, который он сам перерос, — он, маленький, заносчивый карлик и плебей, прилежно-расторопный умственный ремесленник «идей», «современных идей»!
59Кто глубоко заглянул в мир, догадывается, конечно, какая мудрость заключена в том, что люди поверхностны. Это инстинкт самосохранения научает их быть непостоянными, легкомысленными и лживыми. Порой мы встречаем страстное и доходящее до крайности поклонение «чистым формам», как у философов, так и у художников, — не подлежит сомнению, что тот, кому до такой степени нужен культ поверхности, когда-нибудь да сделал злосчастную попытку проникнуть под неё. Что касается этих обжёгшихся детей, прирождённых художников, которые находят наслаждение жизнью только в том, чтобы искажать её образ (как бы в затянувшуюся отместку жизни), то для них, может быть, существует даже ещё и табель о рангах; в какой мере у них отбита охота к жизни можно заключить из того, до какой степени искажённым, разбавленным, опотустороненным, обожествлённым хотят они видеть её образ, — и можно бы отнести homines religiosi к числу художников, в качестве их высшего ранга. Это глубокая подозрительная боязнь неисцелимого пессимизма принуждает целые тысячелетия вгрызаться в религиозное истолкование бытия: боязнь, присущая тому инстинкту, который чает, что, пожалуй, можно слишком рано стать обладателем истины, ещё до того, как человек сделается достаточно сильным, достаточно твёрдым, в достаточной степени художником... Благочестие, «жизнь в Боге», рассматриваемые с этой точки зрения, явились бы тогда утончённейшим и крайним порождением страха перед истиной, художническим поклонением последовательнейшей из всех подделок и опьянением ею, волей к переворачиванию истины, к неправде любой ценой. Быть может, до сих пор не было более сильного средства, чем благочестие, для того чтобы приукрасить самого человека: благодаря ему человек может сделаться до такой степени искусственным, поверхностным, переливчато красочным, добрым, что вид его перестанет вызывать страдание.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего"
Книги похожие на "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Фридрих Ницше - По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего"
Отзывы читателей о книге "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего", комментарии и мнения людей о произведении.