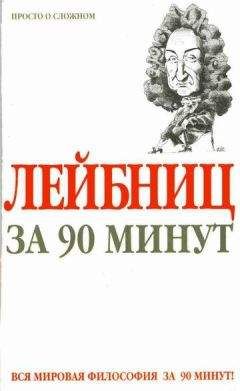Жиль Делёз - Складка. Лейбниц и барокко
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Складка. Лейбниц и барокко"
Описание и краткое содержание "Складка. Лейбниц и барокко" читать бесплатно онлайн.
Похоже, наиболее эффективным чтение этой книги окажется для математиков, особенно специалистов по топологии. Книга перенасыщена математическими аллюзиями и многочисленными вариациями на тему пространственных преобразований. Можно без особых натяжек сказать, что книга Делеза посвящена барочной математике, а именно дифференциальному исчислению, которое изобрел Лейбниц. Именно лейбницевский, а никак не ньютоновский, вариант исчисления бесконечно малых проникнут совершенно особым барочным духом. Барокко толкуется Делезом как некая оперативная функция, или характерная черта, состоящая в беспрестанном производстве складок, в их нагромождении, разрастании, трансформации, в их устремленности в бесконечность. Образуемая таким образом бесконечная складка (сразу напрашивается образ разросшейся до гигантских размеров коры головного мозга) имеет как бы две стороны или два этажа — складки материи и сгибы в душе. Тяжелые массы материальных складок громоздятся под действием внешних сил, а затем организуются в стройную систему согласно внутренним изгибам души. Декарт использовал совершенно иной принцип монтажа: для него материя характеризуется прямолинейной протяженностью, а душа — "прямизной", выправляющей любые душевные "наклонности".
3
Ср. «Рассуждение о метафизике», § 8 и 13.
4
«О свободе» (F, р. 180–181): «Бог один видит, разумеется, не окончательное решение, ибо конца этого нет, но связь между членами серии, как свертывание предиката в субъекте, ибо он видит всякую вещь, находящуюся в серии».
5 Ср. «О свободе» (р. 183), но также и «О принципе разума» (С, р. 11), «Необходимые и случайные истины» (С, р. 17–18), а также Фрагмент X (GPh, VII, р. 300). В этих текстах Лейбниц ссылается на аналогичные арифметические примеры и употребляет синонимичные термины («latebat» — «скрывался» или «tecte» — «скрытно», так же, как и «virtual iter» — «виртуально». Кутюра, следовательно, имел основания утверждать: «Необходимые истины являются тождествами, одни — эксплицитно, другие — виртуально или имплицитно» (La logique de Leibniz, Olms, p. 206).
{73}
ного или имплицитного — охватывают только сущностные суждения, тогда как суждения существования в предельных случаях от анализа ускользают.
Первая наша задача состоит в определении сущностей. Однако мы не можем сделать этого, не зная, что I такое определение, — так что рискуем исходить из уже поддающихся определению сущностей, ничего не зная о том, что они допускают. Определение постулирует тождественность одного члена (определяемого), по меньшей мере, двум другим (определяющим или основаниям). Возможна замена определения на определяемое, и эта замена представляет собой взаимное включение: например, я определяю 3 через 2 и 1. Тем временем, мы должны сделать несколько замечаний. Во-первых: речь идет о реальных или генетических определениях, демонстрирующих возможность определяемого: мы определяем 3 не через 1, 1 и 1 и не через 8 — 5, но посредством первых чисел, которые включаются в 3 и включают 3. Во-вторых: подобные определения никоим образом не действуют через родовые понятия и различия, а также не требуют, чтобы у понятия были содержание или объем, отвлеченный или обобщенный характер, — каковые, к тому же, отсылают к номинальным определениям. В-третьих: доказательство можно определить как цепочку определений, т. е. как последовательность взаимных включений: именно так мы доказываем, что «2 плюс 2 = 4».6 И, наконец, мы предчувствуем, что хотя антецедентность, которую уже Аристотель называл «до и после», и не принадлежит здесь к порядку времени, она все же является сложным понятием: определяющие или основания должны предшествовать определяемому, коль скоро они детерминируют его возможность, но все это — «в потенции», а не «актуально»; актуализация предполагала бы, наоборот,
6 «Новые опыты», IV, гл. 7, § 10.
{74}
антецедентность определяемого. Из этого и получается взаимное включение и отсутствие всяких временных отношений.
А если так, то само собой разумеется, что если мы проследуем по атемпоральной последовательности определений к ее истокам — от определения к определению — мы доберемся до неопределимого, т. е. до определяющих, представляющих собой окончательные основания и не поддающихся определению. С тех пор, как мы решили оперировать реальными определениями, вопрос о том, почему не следует придерживаться неопределенности, теряет всякий смысл: неопределенное даст и может давать лишь номинальные определения. Если бы мы с самого начала знали, что такое реальное определение, нам следовало бы начать именно с неопределимого. Но мы добрались до неопределимого через посредство реальных определений и обнаружили, что неопределимые понятия являются абсолютно первыми в ряду «до и после»: это «изначальные простые понятия». Продвигаясь от определения к определению (демонстрация), в итоге можно отправляться только от неопределимых членов, входящих в первичные определения. Эти неопределимые, очевидно, в отличие от определений, представляют собой не взаимные включения, а самовключения: это Самотождественности в чистом виде, каждая из которых включает в себя саму себя и только саму себя, так как каждая может быть тождественной только самой себе. Лейбниц устремляет тождественность в бесконечность: Самотождественное есть как бы самополагание бесконечного, без чего тождественность оставалась бы гипотетичной (если А существует, следовательно, А есть А)…
Этой своеобразной трактовки тождественности уже достаточно, чтобы продемонстрировать, что Лейбниц создал весьма специфичную, по сути — барочную концепцию принципов. На этот счет ряд тонких замечаний сделал Ортега-и-Гассет: с одной стороны, Лейбниц любит принципы, и это, несомненно, единственный философ, изобретавший их непрестанно, — он изобретал их с удовольствием и энтузиазмом и бряцал ими, будто
{75}
оружием; но, с другой, — он с принципами играет, приумножает их формулировки, варьирует их взаимоотношения и непрерывно желает их «доказать», как если бы, несмотря на большую к ним любовь, он относился бы к ним без особого уважения.7 Дело здесь в том, что принципы Лейбница
— это не пустые универсальные формы и, вдобавок, не гипостазисы и не эманации, творящие из себя существа. Но они детерминируют классы существ. Если принципы представляются нам чем-то вроде криков, то объясняется это тем, что каждый из них оповещает о присутствии некоего класса существ, испускающих эти крики и узнающих друг друга по специфическому крику. В этом смысле невозможно поверить, будто принцип тождественности не позволяет нам ничего узнать, — даже если он и не дает нам углубиться в это познание. Принцип тождественности, или, скорее, принцип противоречия, — пишет Лейбниц, — знакомит нас с особым классом существ — существ Самотождественных и совершенных. Принцип тождественности, или, скорее, противоречия, есть всего лишь крик Самотождественных — и потому не может быть отвлеченным. Это некий сигнал. Самотождественные сами по себе неопределимы и, возможно, для нас непознаваемы; тем не менее, они обладают критерием, который мы начинаем познавать или понимать благодаря этому принципу.
Самотождественна всякая форма, какую можно помыслить как саму по себе бесконечную и непосредственно возвысить до бесконечности саму по себе, а не через какую-либо причину: это «сущность, которую можно возвести в последнюю степень». Таков основной критерий самотождественности. Можем ли мы, к примеру, помыслить бесконечными какие-либо скорость, число или цвет? Зато мысль, как и протяженность, представляются формами, возвышаемыми до бесконечности, — при условии, что эти формы не будут рассматриваться как целые и обладающие частями: это
7
Ortega у Gasset, L'evolution de la theorie deductive, Videe de principe chez Leibniz, Gallimard, p. 10–12.
{76}
«абсолюты», «первичные возможные», «абсолютно простые изначальные понятия», А, В, С…8 Поскольку каждое из них включает само себя и только само себя, а также не является целым и не имеет частей, они строго и неукоснительно не вступают между собой ни в какие отношения. Это абсолютно несходные между собой и разнородные понятия, и они не могут друг другу противоречить, поскольку не имеют элементов, которые один исследователь мог бы утверждать, а другой — отрицать. Бланшо сказал бы, что они находятся в «нон-отношениях». И как раз то же следует из принципа противоречия: последний говорит, что две четко выделяемых Самотождественности противоречить друг другу не могут и на самом деле образуют некий класс. Их можно назвать «атрибутами» Бога. Здесь-то мы, по сути, и находим единственный общий для Спинозы и Лейбница тезис, их общую точку зрения, согласно которой онтологическое доказательство бытия Божьего требует окольного пути, — от коего Декарт посчитал нужным себя избавить: перед тем, как сделать вывод, что бесконечно совершенное Существо с необходимостью существует, — по Лейбницу и Спинозе, следует доказать, что оно возможно (реальное определение) и что оно не имплицирует противоречий. И доказательство это состоит как раз в том, что все абсолютные формы не в состоянии противоречить друг другу относительно того, что они могут принадлежать одному и тому же существу, — а раз могут, то на самом деле и принадлежат. Поскольку это формы, их реальное онтологическое раз-
8 Об этом критерии, или образце возвышения до бесконечности, а также об условии «ни целого, ни частей», ср. «Новые опыты…», II, гл. 17, § 2-16. Кроме того, ср. «Размышления о познании, истине и идеях». В обоих текстах в качестве изначальной бесконечной формы признается абсолютная протяженность, «extensio absoluta». Но она берется в весьма специфичном смысле, поскольку речь идет не о пространстве, каковое является относительным, и не о собственно лейбницианской протяженности, вступающей в отношения с целым и частями: речь идет о безмерности, т. е. об «идее абсолюта по отношению к пространству».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Складка. Лейбниц и барокко"
Книги похожие на "Складка. Лейбниц и барокко" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жиль Делёз - Складка. Лейбниц и барокко"
Отзывы читателей о книге "Складка. Лейбниц и барокко", комментарии и мнения людей о произведении.