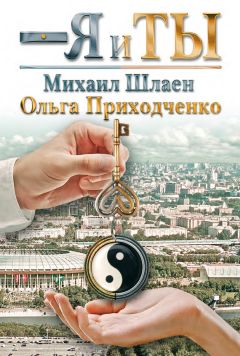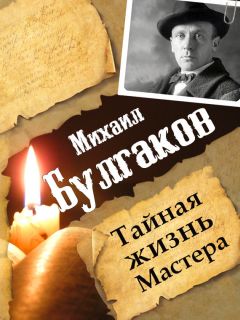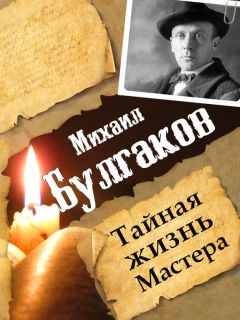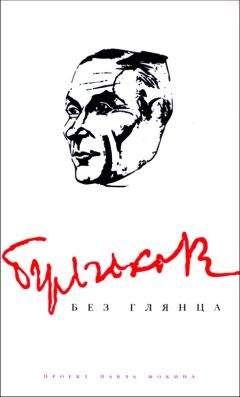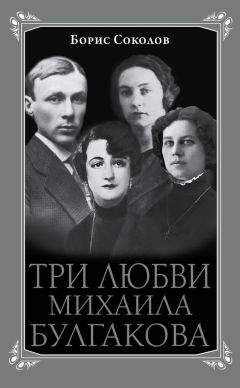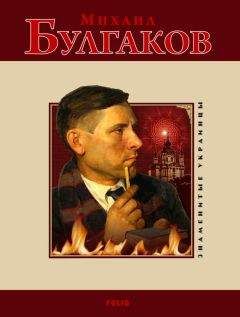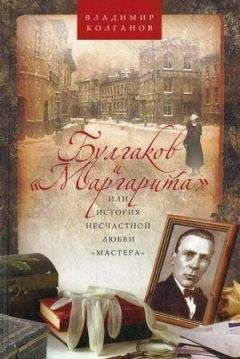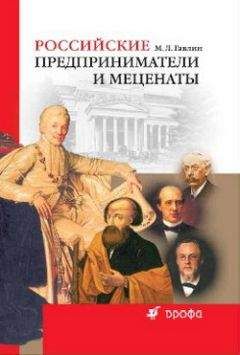А. Смелянский - Михаил Булгаков в Художественном театре

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Михаил Булгаков в Художественном театре"
Описание и краткое содержание "Михаил Булгаков в Художественном театре" читать бесплатно онлайн.
Михаил Булгаков говорил, что проза и драматургия для него как правая и левая рука пианиста. Но, если о прозе автора «Мастера и Маргариты» написано довольно много, то театральная его судьба освещена еще недостаточно. Книга А. М. Смелянского рассматривает историю таких пьес, как «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», инсценировки «Мертвых душ» и их постановки на сцене МХАТ. Завершается книга анализом «Театрального романа», как бы подводящего итог взаимоотношениям Булгакова и Художественного театра. Книга иллюстрирована. Рассчитана на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся театром.
Дело, конечно, этим не ограничилось. Все было намного серьезнее. Достаточно прочитать письмо, которое Немирович-Данченко напишет Станиславскому 24 января 1936 года, напишет и не отправит, как это часто бывало в их отношениях, когда первый бурный и гневный порыв смирялся голосом рассудка, «благородством нашего воспитания», как скажет Владимир Иванович в конце этого замечательного документа, опубликованного спустя сорок три года.
Письмо, написанное перед выпуском «Мольера», сочетает в себе спор по самым принципиальным вопросам искусства с не менее остро поставленной проблемой «административно-этической» жизни театра, области, которой основатели придавали огромное значение. «Вам, конечно, известно так же, как и мне, что основной директивой правительства Комитету искусств служит формула: необходимо помирить этих двух людей. Стыдно, чтобы два таких человека, на которых смотрит весь мир (так мне по крайней мере сказано), не могли договориться в своем собственном театре» 19.
Так вот (это к вопросу о соотношении «малой» и большой мхатовской истории), два человека, на которых смотрел весь мир, не могли договориться между собой во многом из-за того, что между ними встал Н. В. Егоров! Заместитель директора по административно-финансовой части, бывший бухгалтер фабрики Алексеевых, Николай Васильевич Егоров прошел обыкновенный путь становления «театрального Воланда». Подышав и отравившись закулисным воздухом, скромный бухгалтер ввинтился во все поры мхатовского организма, во все его «интриги» и «перевороты». Пользуясь длительным отсутствием Константина Сергеевича, он стал называть себя «заместителем Станиславского» в театре: его имя мелькает во многих самых серьезных документах мхатовской истории 30-х годов, с ним так или иначе связаны болезненные перестройки организационного характера, с ним, наконец, связана тесно и театральная судьба Булгакова. Образ Егорова не сходит со страниц булгаковской семейной хроники, которая в свою очередь готовит образ «заведующего материальными фондами» Независимого театра Гавриила Степановича. Обладатель сиплого тенора и мушкетерской бородки приобретет в «Театральном романе» сатанинские черты: недаром из-под стола Гавриила Степановича бьет «адский красный огонь», а лукавое предложение драматургу «подписать договорчик» сильно отдает легендарной сделкой в «Фаусте».
Немирович-Данченко в неотправленном письме с искусством опытнейшего психолога и театрального диагноста сделал анализ застарелого мхатовского недуга, который в дни выпуска «Мольера» с помощью домашних мхатовских Мефистофелей обострился до последней степени: «Вероятно, мы оба заражены честолюбием. Это так естественно во всех деятелях искусства. На этой почве в течение всех 37 лет, Вы хорошо знаете, наживались люди, которым и места не должно было быть в театре, и только Ваша и моя громаднейшая любовь к театру и Ваше и мое уважение к работе друг друга, наконец, просто благородство нашего воспитания — только благодаря всему этому мы уберегли Художественный театр» 20.
Вопрос о Егорове стоит в письме рядом с вопросом о Судакове, о направлении театра, который пошел «вширь», а не «вглубь». Немирович-Данченко еще рассчитывает на какую-то переломную, в духе «Славянского базара», встречу со Станиславским, которая могла бы решить творческие и административные проблемы, затянутые в сложнейший узел. Письмо, однако, отправлено не было, а ситуация, возникшая после премьеры «Мольера», возможность распутывания «паутины всевозможных обстоятельств» отодвинула навсегда.
Вот реальный контекст, в который вписывается решение Немировича-Данченко выпускать булгаковскую пьесу, решение достаточно серьезное и ответственное, что автор «Мольера», надо сказать, мало оценил. 31 декабря 1935 года Немирович-Данченко посмотрел полный прогон спектакля на сцене Филиала. Начало прогона задержали из-за опоздания Кореневой. Потом состоялась беседа с исполнителями, в которой выявилось не только трудное положение со спектаклем, но и достаточно трудное положение режиссера, попавшего в чужую и далекую от него работу. «…Я четыре ночи не спал, думал, как бы не ошибиться и быть полезным, — начал Владимир Иванович. — Мое положение с этой постановкой — необычайное. Если бы это было год назад или, по крайней мере, восемь месяцев тому назад — тогда другое дело. Сейчас трудно во всех отношениях». Временной рубеж в восемь месяцев, как каждому понятно, — это репетиции в Леонтьевском переулке и все наслоения, возникшие в результате разлада Станиславского с актерами и автором.
Прежде чем перейти к разбору спектакля, Немирович отпускает с репетиции некоторых наиболее «капризных» артистов, чтобы пощадить их самолюбие и окончательно «не раскачать» работу. «Сейчас я отпускаю Лидию Михайловну Кореневу. У Вас все блестяще, если и есть какие-то спорные моменты, то я о них Вам после скажу».
Предприняв эту характерную психологическую акцию, Немирович-Данченко без всяких оговорок и недомолвок называет то главное противоречие, которое раздирало спектакль на протяжении нескольких лет: «Самый большой здесь общий недостаток, который всегда был в Художественном театре, с которым я всегда боролся. Берется в работу пьеса, и сразу начинается с того, что не верят автору. Так было с пьесами „Три сестры“, „Сердце не камень“ и др. Автору не верят: это у него банально, это не так и т. д. Начинается переделка. Обыкновенно каждый играет не пьесу, и даже не роль, а то, что ему хотелось играть». Немирович-Данченко объясняет исполнителям, что для каждой пьесы есть какой-то предел актерского самолюбия, нарушение которого не проходит безнаказанно для спектакля («в этой работе оно звенело больше, чем в какой-либо другой, до меня это доходило»). Вселяя веру в успех («За результат этого спектакля я не боюсь. В целом он будет принят хорошо»), режиссер начал с разбора основной темы пьесы. Он начал разговор о существе писательской и актерской профессии. Видимо, Мольер, как он предстал в трактовке Станицына, Немировича-Данченко не устроил так же, как и Станиславского. Но в понимании драмы художника режиссеры разошлись. Для Немировича суть всей истории заключалась в том, что гениальный драматург давит в себе что-то самое важное, а его природа сопротивляется насилию. «Не может быть, чтобы писатель мог мириться с насилием. Не может быть, чтобы писатель насиловал свою свободу, — объяснял Немирович-Данченко Станицыну. ‹…› Возьмите для примера Пушкина. У писателя всегда есть чувство, что он в себе что-то давит. Вот это чувство я считаю одним из важных элементов в образе Мольера». Пытаясь объяснить актеру, что такое гениальный писатель, режиссер толкует первую сцену с экспромтом в честь короля как сцену глубоко противоречивую. Мольер доходит до восторга в лести и, одновременно, ненавидит себя в этот момент, может дойти «до ножа»: «Актеры ведь во веки веков анархичны… Всем своим духом актеры жили свободой. И чем больше вы задавите в себе это чувство в обращении к королю, тем больше будете искать — на ком сорвать. „Зарежу!“ — может относиться и к королю».
Уясняя и продумывая вслух линию Мольера в булгаковской пьесе, предлагая Станицыну охватить противоречивость художника, его необычайную страстность, особый способ общения с людьми, яркость «аппарата» восприятия жизни и человека, Владимир Иванович неожиданно находит близкое и исчерпывающее сравнение: «Берите пример с Константина Сергеевича, который до того мстительный, грозный, так обаятелен, так подозрителен и так доверчив, как молодая девушка, невероятное сочетание противоречий. Только тупой критик не поймет такого противоречия страстей».
Так разрешился спор Станиславского и Булгакова о том, что такое гениальность и как ее надо играть! Конечно, яркие формулировки Немировича-Данченко не могли заменить на сцене Станицына. Роль не шла, актер изнервничался и потерял веру в себя.
В протоколах репетиций сохранилось несколько фрагментов работы Немировича-Данченко с А. Степановой в любовной сцене с Муарроном. Рисунок роли Арманды намечался достаточно острый. «Скверная девчонка», «жена Мольера — она это чувствует, особенно в театре… И по отношению к Муаррону — у нее чувство: „Вы не забывайте, что вы беспризорный мальчишка, а Мольер… мой муж!“ ‹…› Это страсть такая, которая вызывает темную силу. ‹…› Он смотрит нагло и откровенно. Она видит это и побаивается. ‹…› Она знает, что у нее не ангельское лицо, и где-то, репетируя, делает святое лицо. Надо показать, как сцена дает ложь. Непременно в ней должно быть такое чувство антрепренерши, в руках которой и жалованье и роли. Вот как такая бросится в объятья?» — ставил задачу Немирович-Данченко перед актрисой, работа которой в целом ему понравилась.
Из поразивших режиссера неожиданностей спектакля был Король — М. Болдуман. «Я его представлял не таким монументальным и более подвижным. У вас он будто никогда не веселится. У вас он не покровитель искусства. У меня он весь блестящий — фейерверк. Мне казался он более герцогом из „Риголетто“. Но и то, что вы даете, — очень хорошо». Горчаков объяснял, что они шли от иного замысла, что им казалось «политически интереснее» дать короля «золотым идолом, который давит».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Михаил Булгаков в Художественном театре"
Книги похожие на "Михаил Булгаков в Художественном театре" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Смелянский - Михаил Булгаков в Художественном театре"
Отзывы читателей о книге "Михаил Булгаков в Художественном театре", комментарии и мнения людей о произведении.