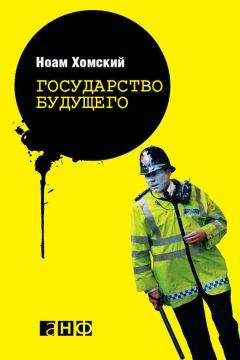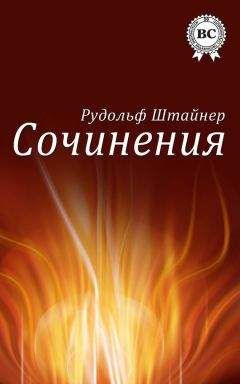Ноам Хомский - Картезианская лингвистика
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Картезианская лингвистика"
Описание и краткое содержание "Картезианская лингвистика" читать бесплатно онлайн.
В настоящей книге выдающийся американский лингвист Ноам Хом- ский попытался проследить в трудах языковедов и философов прошлого идеи, сходные с положениями разработанной им теории трансформационной порождающей грамматики. С этой целью он обратился к лингвофилософ- ской рационалистической традиции XVII–XVIII вв., незаслуженно, по его мнению, забытой. Обильно цитируя сочинения Р.Декарта и Ж. деКордемуа, Дж. Хэрриса и Р. Кедворта, братьев Шлегелей и В. фон Гумбольдта, а также других мыслителей Франции, Германии и Англии, Хомский создает целостное представление о главных особенностях рационалистического подхода к языку, основы которого были заложены еще в античности. Знаменитый труд Хомского был переведен на многие языки и вызвал в свое время бурную полемику в научной печати; его русский перевод, несо- мненно, будет воспринят с интересом лингвистами, психологами, философами, культурологами, историками науки и представителями других гуманитарных профессий.
Примечания 1 [Grammont 1920, 439]. Цитируется по [Harnois 1929]. Арнуа в целом согласен с таким мнением и считает, что языкознание раннего периода едва ли заслуживает наименования «науки»; сам же он, по собственному признанию, занимается «историей лингвистики до появления лингвистики как таковой». Подобные взгляды были в свое время широко распространены. 2 Под «генеративной грамматикой» я понимаю описание скрытой (tacit) компетенции говорящегослушающего, которая лежит в основе его конкретного исполнения (performance) в процессе производства и восприятия (понимания) речи. Рассуждая в теоретическом плане, можно сказать, что задачей генеративной грамматики является точное определение способов совмещения звуковых и смысловых репрезентаций, диапазон которых бесконечен. Таким образом, генеративная грамматика — это гипотеза о том, как говорящий-слушающий истолковывает высказывания; при этом она абстрагируется от многочисленных факторов, которые взаимодействуют со скрытой компетенцией и определяют конкретный вид исполнения. Из последних работ на эту тему см. [Katz, Postal 1964; Chomsky 1964; 1965]. Не следует также полагать, что те или иные исследователи, относимые мною к тому, что я называю «картезианской лингвистикой», считали себя частью единой «традиции». Разумеется, это не так. Используя конструкт «картезианская лингвистика », я собираюсь описать ту совокупность идей и тот круг интересов, которые характеризуют: а) традицию «универсальной» или «философской грамматики», идущей от «Общей и рациональной грамматики» Пор-Рояля (1660); б) общее языкознание периода романтизма, равно как и периода, непосредственно за ним последовавшего; в) рационалистическую философию мышления, которая отчасти служит общим фоном как для философской грамматики, так и для общего языкознания. Картезианские корни универсальной грамматики общепризнаны; например, Сент-Бев говорит о грамматической теории Пор-Рояля как об «ответвлении картезианства, развитию которого сам Декарт вовсе не способствовал» [Sainte-Beuve 1888, 539]. Связь общего языкознания периода романтизма с указанным комплексом идей не так очевидна, но все же я попытаюсь показать, что некоторые из его основных особенностей (более того, те из них, которые, по моему мнению, предоставляют наибольшую ценность для лингвистической теории) можно связать с картезианскими идеями предшествующего периода.
При обсуждении романтических теорий языка и мышления в очерченных мною рамках мне придется исключить из рассмотрения другие важные и характерные их аспекты, в частности органицизм, который (верно или неверно) был истолкован как реакция на картезианский механицизм. В целом необходимо подчеркнуть, что в данном случае меня интересует не история передачи определенных идей и учений, а их содержание и в конечном счете их значение для современной науки.
Подобного рода исследование полезно было бы продолжить как часть более общих разысканий на тему картезианской лингвистики в ее противопоставлении той совокупности теорий и гипотез, которую можно назвать «эмпирической лингвистикой »; примером последней являются современная структурная и таксономическая лингвистика, а также параллельные исследования в современной психологии и философии. Однако в данной книге у меня нет возможности развить это противопоставление со всей полнотой и ясностью. Следует учесть, что мы рассматриваем период, предшествовавший раздельному существованию лингвистики, философии и психологии. Стремление каждой из этих дисциплин «эмансипироваться » от других, избежать всякой контаминации с ними типично именно для современного периода.
И в этом случае исследования, ведущиеся в рамках генеративной грамматики, также заставляют нас обратиться к более ранним взглядам на место языкознания среди прочих наук. Декарт оставляет открытым вопрос, решение которого выходит за пределы возможностей человеческого разума; это вопрос о том, являются ли выдвигаемые им объяснительные гипотезы «верными» в любом абсолютном смысле. Он ограничивается заявлением об их адекватности, хотя, очевидным образом, это не единственное их качество. См. его «Принципы философии», принцип CCIV.
Следует четко представлять себе, в каком контексте велся спор по поводу границ механистического объяснения. Предметом спора является не существование разума как некой субстанции, сущность которой заключается в мышлении.
Для Декарта это очевидная данность, подтверждаемая интропекцией; доказать существование разума в действительности легче, чем доказать существование тела. Истинная проблема заключается в том, обладают ли разумом также и другие люди. Существование у них разума можно доказать, исходя лишь из косвенных свидетельств наподобие тех, что приводятся Декартом и его последователями. Их попытки доказать существование разума у других людей в глазах современников выглядели не очень убедительными. Так, Пьер Бейль* характеризует предположительную неспособность картезианцев доказать существование разума у других людей «как, пожалуй, наиболее слабую сторону картезианства » (статья «Rorarius» в [Bayle 1965, 231]). * Бейль Пьер (Bayle P., 1647-1706) — французский философ и публицист, критик философии Декарта. 6 «Рассуждение о методе», часть V. См. [Descartes 1955, 116]. Приводимые ниже цитаты даются по этому изданию [Op. cit., 116-117].
В общем случае я использую английские переводы, если они, равно как и оригиналы, одинаково мне доступны; в иных случаях я цитирую оригинал, если он имеется в моем распоряжении.
При цитировании первоисточников я иногда слегка упорядочиваю правописание и пунктуацию. 7 О современных подходах к этой проблеме и о некоторых новых данных см. [Lenneberg 1964]. 8 Очевидным образом свойство неограниченности и свойство независимости от стимулов не связаны друг с другом. Автомат может выдавать только два ответа, распределяя их случайным образом.
Магнитофон или человек, чье знание языка ограничивается одной лишь способностью писать под диктовку, дают на выходе ничем не ограниченный результат, который не является, однако, независимым от стимулов в указанном выше смысле.
Поведение животных всегда рассматривается картезианцами как неограниченное, но не свободное от стимулов, а значит, не «творческое» в том смысле, в каком считается творческой человеческая речь. Ср., например, высказывание Франсуа Бейля:
«А поскольку разнообразие впечатлений, производимых предметами на органы чувств, безгранично, то и побуждения духов перемещаться в мускулы также могут быть бесконечно разнообразными; следовательно, бесконечно разнообразными будут телодвижения животных; их тем больше, чем большее разнообразие частей тела и больше изобретательности и искусства в их строении» [Bayle 1670, 63].
Неограниченность же человеческой речи как выражение безграничности мысли носит совсем иной характер, ибо она обусловлена свободой от контроля посредством стимулов и возможностью приспособления к вновь возникающим ситуациям.
Важно различать «соответствие поведения ситуации » и «контроль над поведением посредством стимулов». Последний характерен и для автоматов, первое же, во всем его человеческом разнообразии, считается не поддающимся механистическому объяснению.
Исследования по коммуникации животных, проводимые в настоящее время, до сих пор не позволили обнаружить какие-либо факты, противоречащие предположению Декарта о том, что человеческий язык в основе своей имеет совершенно иной принцип. Любая известная нам система коммуникации животных либо состоит из неизменного числа сигналов, каждый из которых связан со специфическим набором внешних условий или внутренних состояний, стимулирующих производство этого сигнала, либо из постоянного числа «языковых параметров», каждый из которых связан с неязыковым параметром таким образом, что выбор некой точки в одном измерении однозначно указывает на соответствующую точку в другом измерении. Ни в том, ни в другом случае не обнаруживается существенного сходства с человеческим языком. Коммуникация людей и коммуникация животных обнаруживают общность лишь на очень высоком уровне абстракции, когда рассматриваются вместе также и почти все иные типы поведения. Таким образом, в общем случае «хотя такая машина многое могла бы сделать так же хорошо и, возможно, лучше, чем мы, в другом она непременно оказалась бы несостоятельной, и обнаружилось бы, что она действует не сознательно, а лишь благодаря расположению своих органов» [цит. по: Декарт 1989, 283; ср.: Декарт 1950, 301]. Поэтому существуют два «верных средства» [цит. по: Декарт 1989, 283] определения того, является ли данное устройство действительно человеком; одно доказательство доставляет нам творческий характер языкового употребления, другое — разнообразие человеческих действий. «Поэтому совершенно невозможно (Холдейн и Росс переводят „морально невозможно") представить себе машину с таким разнообразием органов, которое заставляло бы ее действовать во всех случаях жизни так, как нас заставляет действовать наш разум»*. Исходя из этого положения, Декарт подробно излагает свою концепцию «познающей силы» как способности, которая не является целиком пассивной; «строго говоря, она именуется умом, когда она то создает в фантазии новые идеи, то имеет дело с уже созданными» * В данном случае переводчик вынужден предложить свою версию перевода ввиду неточности опубликованных переводов [ср.: Декарт 1950, 301; 1989, 283]. Выражение «морально невозможно» в английском переводе и в {Декарт 1950] безусловно является буквализмом. [цит. по: Декарт, 1989, 117, 118], причем она действует таким образом, что не поддается полному контролю со стороны органов чувств, воображения или памяти («Правила для руководства ума», 1628; [цит. по: Descartes 1955, 39]). Ранее Декарт отмечал, что «само совершенство действий животных наводит на мысль, что у них отсутствует свобода воли» (ок. 1620 г.; цит. в [Rosenfield 1941, 3] как первое упоминание Декартом проблемы наличия у животных души).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Картезианская лингвистика"
Книги похожие на "Картезианская лингвистика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ноам Хомский - Картезианская лингвистика"
Отзывы читателей о книге "Картезианская лингвистика", комментарии и мнения людей о произведении.