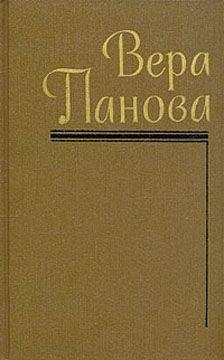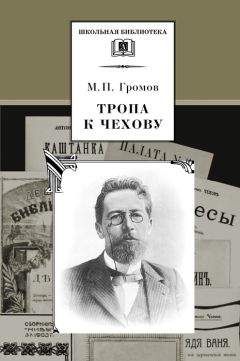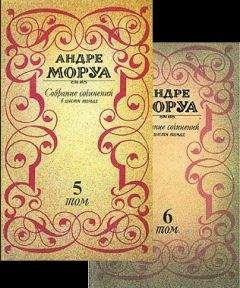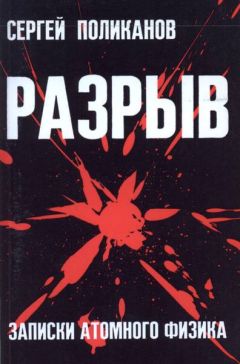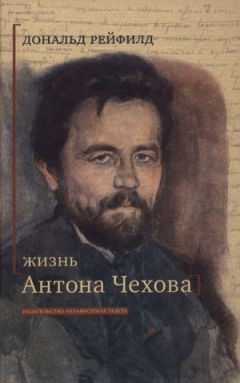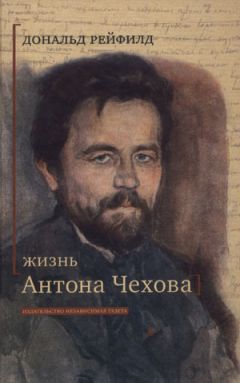Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Ложится мгла на старые ступени"
Описание и краткое содержание "Ложится мгла на старые ступени" читать бесплатно онлайн.
Алекса?ндр Па?влович Чудако?в (2 февраля 1938, Щучинск, Казахская ССР - 3 октября 2005, Москва, Россия) - российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Был женат на литературоведе и общественном деятеле Мариэтте Чудаковой.В 1960 закончил филологический факультет МГУ. С 1964 работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983). После 1987 читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Состоял в Международном Чеховском обществе.Чудакову принадлежат следующие работы: «Поэтика Чехова» (1971, английский перевод - 1983), «Мир Чехова: Возникновение и утверждение» (1986), «Слово - вещь - мир: от Пушкина до Толстого» (1992). Помимо этого он опубликовал более двухсот статей по истории русской литературы, готовил и комментировал сборники произведений Виктора Шкловского, Юрия Тынянова.В 2000 в журнале «Знамя» был напечатан роман Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», который номинировался на Букеровскую премию в 2001. Премия фонда «Знамя» 2000.
Дома эти еще в тридцатые годы получили комбедовцы. Так как дома были большие, то когда начала работать горсоветская комиссия по устройству эвакуированных, она почти в каждом находила излишки и подселяла приезжих; получился целый околоток, который так и называли: у вакуированных. Подселенных не очень любили - даже те, кого они не стеснили, называли: дворянки-водворянки. Эвакуированным, как и беженцам в первую германскую, давали какую-то мануфактуру, продукты; местные возмущались.
- И чего? - говорила мама, у которой Антон потом расспрашивал про войну. - Ведь это было только справедливо. У местных - огород, картошка, корова. А у этих, как и у ссыльных, - ничего.
- А почему они не заводили огороды? Ведь землю давали.
- Сколько угодно! В степи каждый желающий мог взять выделенную норму - 15 соток. Да и больше, никто не проверял. Но - не брали. Эвакуированные считали, что не сегодня-завтра освободят Ленинград, возьмут Харьков, Киев, и они вернутся. (“Совсем как русская эмиграция, - думал Антон. - И города те же”). Да и не желали они в земле копаться. Из ссыльных? Ну, дворяне, кто в детстве жил в имениях. Из интеллигенции - почти никто. Наша техникумовская литераторша Валентина Дмитриевна - ты ее помнишь? - сначала жила в Кокчетаве. Недалеко от нее поселилась, когда отбывала ссылку, Анастасия Ивановна Цветаева. Так та, ничего сначала не умея, завела потом огород, выращивала картофель, овощи. И жила нормально. Но таких было мало. Голодали, продавали последнее, но обрабатывать землю не хотели. Дед над ними посмеивался: “Где ж власть земли? А народные истоки - самое время к ним припасть, заодно и себя прокормишь…”
Такие высказыванья деда помнил и я, здесь он совпадал с местными, которые презирали приезжих за неумелость, нежеланье копаться в навозе. Уважали шахматиста Егорычева, построившего теплицу и жившего безбедно; власти поглядывали на нее косо, но найти пункт, по которому ее можно было запретить, не могли.
По Набережной в распутицу было не пройти, не проехать. Но зато летом ее проезжая часть покрывалась подушкой мягкой, как пух, пыли. Слабый дождик пробуровливал в ней лишь частые, как в дуршлаге, дырочки. После острокаменной дороги с Сопки или надречных склонов с жестким послепокосным пырейным остьем, колючим молочаем или целых плантаций крапивы (клич звучал: “По крапиве прямиком так и дуем босиком”, но даже возвращаться по уже слегка протолоченной тропке было больно) это был подарок сбитым и зажаленным босым ногам. Они тонули в пыли - теплой серой или горячей черной - по щиколку, наслажденьем было медленно брести, взрывая тут же опадающие крохотные воронки-бурунчики. Не хуже и бежалось - вздымалось сразу целое пыльное облако; называлось - “айда пылить”. Ну, а если проезжала одна из двух чебачинских полуторок, столб пыли подымался до крыш, и пока не осел, в него надо было успеть заскочить; Ваську за такое развлеченье дядька протягивал костылем.
В этой пыли нежились куры и трепыхались воробьи. Воробьев не любили - они склевывали вишню, выклевывали подсолнухи, не боясь, как прочие нормальные птицы, огородных пугал. Вызорить воробьиное гнездо не считалось предосудительным. Когда они раз в несколько лет собирались тучами на свои воробьиные базары (отец говорил: партсъезды), для огородников Набережной это была катастрофа.
- Ну хорошо, птичьи базары где-нибудь на Новой Земле, они там и гнездятся коллективно. Но тут? - поражался дед.
Воробьев было столько, что наверняка они слетались и из Батмашки, и из Котуркуля, с Карьера, может, и из Успено-Юрьевки - кто их предупредил, что в этом месте, в этот день и час? Кто объяснил, как для жизни вида важен такой межродственный обмен? И дед в сотый раз застывал с разведенными рукам перед таинством Природы.
Под нелюбовь к воробьям чебачинцы подводили историческую базу. Когда Христа распинали, римские воины рассы’пали гвозди. Воробей подпрыгивал, подавал их палачам и чирикал: “Жив! Жив!” И Спаситель сказал ему: “Всю жизнь тебя будут гонять и будешь подпрыгивать”. Апокриф хорош, говорил дед, но несколько портит его то, что воробей отнюдь не единственная прыгающая птица - так передвигаются и снегири, и синицы, и все, у кого вместо двух как бы на шарнире берцовых костей - одна, отчего они и не могут ходить.
Последним в переулке был дом Кемпелей-колбасников: старый Кемпель в Энгельсе работал на мясокомбинате. Был он и слесарь, и кузнец, и водопроводчик, сыновья его тоже умели все. Приехали, как и все сосланные поволжские немцы, с одним чемоданом на человека. В трудармию, где немцы гибли тысячами, Кемпеля не взяли как слишком старого, детей - как слишком молодых, семья выжила, обстроилась, сыновья после войны переженились - на своих. В колхозе “Двенадцатая годовщина Октября” старик купил пианино, когда-то реквизированное и лет пятнадцать стоявшее в ленинском уголке без употребленья. Из окон дома колбасников по вечерам слышался Шуберт. Пел старший сын Ганс, механик на пармельнице, аккомпанировала его сестра Ирма, повариха. На работе и во дворе он всегда был очень лохмат. Но когда иногда появлялся на крыльце с идеально гладкими волосами, все знали: скоро из окон польется про “Die schцne Mьllerin”*, хотя ниточно-ровный пробор будут лицезреть одни домашние. Любил Кемпель-сын и русские песни, пел знаменитую кольцовскую “Ты душа моя, красна девица” в своем переводе, где “красна девица” превращалась в “красную мадемуазель”:
O, du meine Seele
Rote Mademuaselle!
Антону вместо этой мадемуазели сильно хотелось вставить: Lumpenmamselle**. Но голос был хорош; когда через много лет Антон услышал Фишера Дискау, а позже - Германа Прая, он почувствовал что-то знакомое - так Шуберта умеют петь только немцы. Теперь в доме жили внуки Кемпеля, из окон доносились “Битлз”.
Переулок выводил к Ленинской, бывшей Дворянской, к центру. На углу стоял городской кинотеатр имени Сакко и Ванцетти. Был еще железнодорожный - имени Клары Цеткин. Говорили: пойдем в Кларку, пойдем к Ссакам. Ссаки располагались в длинном приземистом здании, но внутри с высокими потолками - бывшем оптовом амбаре-складе купца Сапогова.
Кинотеатр был знаменит тем, что из него трудно было выйти. Огромные двустворчатые двери в торце заколотили - там висел экран, выход сделали через узкую боковую дверь, раньше через нее входили-выходили грузчики и конторщики Сапогова. Рассчитанная на тридцать человек, она не могла быстро выпустить пятьсот. Народ давился, Антона раз сильно поприжали, мама перестала пускать его одного. Но шел замечательный фильм “Трактористы”, все друзья говорили про Ваню Курского, распевали: “Здравствуй, милая моя, я тебя дождалси”, Антон упрашивал пустить. Ходатаем выступил Василий Илларионович, заявивший, что не сходя с места сей секунд скажет Антону точно, когда скоро конец фильма.
- Но вы же, Вася, кажется, не смотрели этот фильм? - осторожно удивилась мама.
- А зачем смотреть? Как пойдут строем трактора и трактористы запоют что-нибудь хором, шапку в охапку - и на выход.
Антон вернулся невредимым. Но мама все же поинтересовалась:
- Шли строем трактора? Не шли? А как же ты? - мама еще раз обеспокоенно оглядела Антона.
- Не трактора, а танки. Тоже строем, во весь экран. Я сразу и догадался. И все песню пели: “Сверкая блеском стали, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин”.
В Ссаках же смотрели и “Тарзана”, а по второму и третьему разу бегали в Кларку. Преподаватель английского Атист Крышевич, бывший дипломат, попавший в Чебачинск после добровольного присоединения Латвии, еще до войны читал в лондонской “Таймс”, что крик Тарзана в джунглях - это наложенные друг на друга записи воя гиены, криков бабуинов и птицы марабу. Атисту мы верили - после того, как он сказал, что “На Дерибасовской открылася пивная” поется на мотив популярного во всей Латинской Америке аргентинского танго “Эль чокло”, которое он там везде слышал. Но дело было в том, что Борька Корма без помощи бабуинов воспроизводил этот крик со всеми его дикими руладами с абсолютной точностью. Потом Антон видел другие фильмы на этот сюжет. Старый ему нравился больше. То, что делают новые Тарзаны, овладевшие современным оружием, в боевиках делает любой Сталлоне. А в “Тарзане” с Вейсмюллером была прекрасная ностальгическая идея: сила и ловкость сына природы побеждают технику, слоны оказываются сильнее машин, а тот, кто разговаривает с животными на их языке, - непобедим.
Городской кинотеатр - он же клуб и городской театр - был известен еще историей с занавесом. Его подарила Чебачинску певица Куляш Байсеитова, вернувшись с прославившей ее первой декады казахского искусства в 36-м году в Москве (Антону очень нравилась ее знаменитая песня с припевом: Га-ку, га-ку, га-га-га-га-га!), той самой, на которой всплыл и Джамбул. Занавес был огромный, вишневого рытого бархата. И вдруг он пропал. Сапоговские пудовые замки на мощных пробоях железных дверей оказались целы: кто-то ухитрился снять и унести большой тяжелый занавес после спектакля Омского драматического театра, пока актеры разгримировывались в десяти метрах, за сценой. Недели через две егерь Оглотков, мотаясь по Степи по своим егерским делам, заехал в цыганский табор, недавно раскинутый возле областного центра, в ста верстах от Чебачинска. Цыгане поразили Оглоткова роскошными бархатными шароварами бордового цвета, которые носили все мужчины табора; зрелище - умереть не встать. Табор был тот самый, что стоял недавно под Чебачинском, у Каменухи. Нарядили следствие, цыгане божились и целовали кресты, что купили материю у других цыган, которые теперь гуляют в Степи далеко-далеко. Фамилия у всех в таборе была одна: Безлюдских.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ложится мгла на старые ступени"
Книги похожие на "Ложится мгла на старые ступени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени"
Отзывы читателей о книге "Ложится мгла на старые ступени", комментарии и мнения людей о произведении.