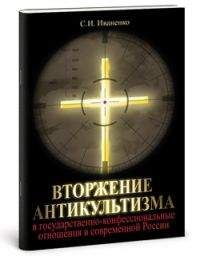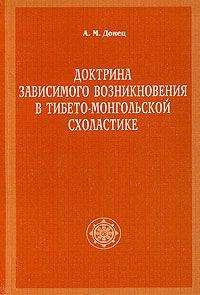Сергей Бурмистров - Брахман и история.Историко-философские концепции современной веданты

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Брахман и история.Историко-философские концепции современной веданты"
Описание и краткое содержание "Брахман и история.Историко-философские концепции современной веданты" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена исследованию историко-философских учений, развиваемых современными представителями адвайта-веданты – наиболее влиятельной философской доктрины сегодняшней Индии. На примере историко-философских концепций Сарвепалли Радхакришнана и Сурендранатха Дасгупты – крупнейших в ХХ веке историков индийской философии – исследуется понимание связи Брахмана и мира в современной веданте, интерпретация процесса развития культуры (и философской мысли в частности) как проявления творческой силы Брахмана, неоведантистское учение о культуре и интеркультурной коммуникации.
Для философов, культурологов, востоковедов и всех, кто интересуется историей мировой философской мысли.
Рассмотрение структуры личности, функций ее различных элементов и ее онтологического, гносеологического, аксиологического статуса в целом важно потому, что именно личность во всем многообразии ее экзистенциальных проявлений есть второй участник диалога «бог – человек», — того диалога, в котором создается человеческая история и, в частности, историко-философский процесс.
Как пишет сам Радхакришнан в главе об адвайта-веданте, «джива есть субъект-объект, Я и не-Я, реальность и видимость. Джива есть Атман, ограниченный объектом»[187]. Слова об Атмане раскрывают понимание природы человека Радхакришнаном. Шанкара в «Атмабодхе» (шлока 10) писал так: «Благодаря различным упадхи происхождение, варна, жизненная стадия и прочие [признаки] накладываются на Атмана, как вкус, цвет и прочие различия — на воду»[188]. В результате получается, что, коль скоро все индивидуальные различия коренятся в этом дополнении, то там же должна находиться и религиозность человека. Так оно на самом деле и происходит. Однако это дополнение неизбежно ограничивает человека: ограничение оказывается здесь обратной стороной индивидуации. Значит, и сама религиозность, то есть вера в бога и стремление к спасению тоже должны ограничивать сущность человека. Но Радхакришнан об этом ограничении человека религией не говорит ничего, видимо, относя ее к такому роду ограничений, которые, в чем-то определяя природу человека, побуждают ее вместе с тем стремиться к избавлению от всяких определений и ограничений, в том числе и от тех, что налагаются религией.
Помимо религиозных стремлений, в «дополнении» находится и такое свойство нашего существа, как неведение (avidya). Логично будет предположить, что даже религиозные стремления вторичны по отношению к неведению, ибо оно, по определению Радхакришнана представляет собой особенность ума, «благодаря которой невозможно познание вещей вне времени, пространства и причинности», а Брахман является сознанию как феноменальный мир[189]. Если попытаться развить идеи Радхакришнана, то можно предположить, что изначально человек не имеет представления о боге, и только когда какие-то особенности феноменального мира приводят его к мысли о возможности существования единой и неизменной основы всех феноменов, он начинает искать эту основу, и так в его душе появляется религиозное чувство, реализующееся в поклонении, построении религиозного идеала и поиске способов его достижения.
Человек, естественно, состоит не только из неизменного и не подверженного внешним влияниям Атмана, но неразрывно связан с феноменальным миром и, в частности, вынужден взаимодействовать с другими индивидами, а следовательно, проявлять себя как моральное существо. Сама же этика, как любая деятельность человека, не относящаяся к поддержанию грубо-телесного его существования, является выражением трагической и одновременно дарующей надежду раздвоенности человека на духовное и материальное начала, ибо только эта раздвоенность побуждает его, с одной сторон, следовать импульсам тела, эгоистическим и по определению аморальным, но с другой стороны, и пытаться реализовать требования своей подлинной природы, которые могут быть реализованы только в соответствии с известным «золотым правилом этики», так как, осуществляя их, человек действует как единый Атман, направляющий свою деятельность не на другого, а на себя же. «Из всего существующего во вселенной один только человек является объектом этики. Он знает, что он имеет отношение к двум мирам – миру бесконечного и миру конечного. […] Постижение тождества с бесконечной реальностью является конечной целью жизни, “надлежащей пищей каждой души” и единственной высшей ценностью. Пока это не достигнуто, конечная душа находится в состоянии беспокойства и разлада с самой собой»[190]. При этом злом в этическом смысле следует считать все, что препятствует познанию бесконечного (слово «realization», напомним, может означать и обретение знания, и осуществление), поэтому главным аспектом этического поведения Радхакришнан считает подавление эгоистических устремлений индивида и утверждение требований коллектива[191].
Видно, таким образом, что общество как носитель и выразитель нравственных норм более эффективно, чем отдельный индивид. В этом утверждении выразилось то особое отношение индийской мысли к духовному наследию, созданному древними коллективами — родовыми общинами. При этом, однако, не вполне ясно, какое же именно общество Радхакришнан считал эталоном нравственного поведения, идеальной референтной группой, с ценностями которой реальный индивид должен согласовывать свою деятельность. Мы склоняемся к предположению, что такой группой могла быть небольшая, замкнутая крестьянская община, ибо ни Индия в целом, ни какой-либо из ее регионов, ни религиозное сообщество, ни каста не способны стать универсальной референтной группой для всех индийцев (учитывая крайнюю этнорасовую и конфессиональную неоднородность населения страны[192]), не говоря уже об обитателях других стран, для которых референтные группы определяются по своим особенным признакам и иными методами.
Этика у Радхакришнана имеет много общего с религией — и та, и другая имеют преимущественно сотериологические цели, различие же между ними состоит главным образом в методах. Метод этики очень близок к карма-йоге, как ее понимали Ауробиндо Гхош, Вивекананда и другие — деятельность личности не должна быть эгоцентрированной и не иметь целью достижение каких бы то ни было материальных или духовных благ данным индивидом. Однако такая незаинтересованность — лишь идеальная цель духовной деятельности человека, на самом же деле только освобожденная душа способна достичь такого мироотношения. Радхакришнан осознает, что свобода от морали — прерогатива человека, уже живущего духовной жизнью[193]. Такой человек, реализовав в себе Брахмана, не нуждается в том, чтобы как-то действовать (подразумевается: действовать эгоцентрированно), поэтому вся его активность есть проявление воли божьей, действующей через него, используя его как орудие. Для такого окончательно просветленного и обретшего полное и истинное знание индивида этических проблем уже не существует — они существуют только для тех, в ком еще силен покров конечного, облекающий бесконечную душу.
В этом отношении Радхакришнан идет в русле философии XX века с ее углубленным интересом к человеку, к антропологической проблематике, – философии, постепенно пришедшей к выводу, что «человеческая подлинность – это не только нечто естественное или данное от рождения, это скорее всего тот предел, который достигается с трудом и в стремлении к вершине духовного совершенства, достигается при каждом постижении разумом той истины, под руководством которой воля стремится к благу и подчиняет ему все поведение личности»[194].
Вместе с тем этика веданты, согласно Радхакришнану, глубоко прагматична, хотя прагматизм ее – вовсе не того толка, что характерен для этики современной западной цивилизации. Этика веданты – этика трансцендентально-сотериологическая. Ее цель – не обеспечить счастье человеку, ибо мудрец ни о чем не думает так мало, как о собственном счастье[195], а дать возможность спастись из пут феноменального мира с его жаждой разных благ и вытекающим из этого страданием.
Мокша (спасение) – цель нравственного поведения. При этом – так как цель всей деятельности человека состоит в устранении ложного различия бога и сотворенной души – спасение легче достигается, по Шанкаре, через знание, и Радхакришнан это отмечает: «Так как различие между высшим Я и индивидом возникает как следствие ложного знания, мы освобождаемся от него путем истинного познания. Все это приводит к мысли, что спасение является результатом метафизической способности проникновения, а не морального усовершенствования»[196]. Иными словами, главный и единственный, магистральный путь спасения – то, что на санскрите называется jñāna-marga, путь знания.
Само понятие знания в древней Индии было достаточно двойственным. Знанием могло считаться то, что можно назвать осведомленностью: человек мог обладать знанием о том, как его зовут, откуда он родом, к какой касте принадлежит и т. п. Однако это знание не было для верующего индийца истинным, ибо это было знание об ограниченных и преходящих объектах и их атрибутах. Подлинным знанием было знание о божестве, пронизывающем для последователей индуизма все вещи[197], ибо это божество не могло быть объектом в силу своей бесконечности. Но как можно познать бесконечное? Оно не поддается логическому анализу, исследованию с разных ракурсов, как мирской объект, поэтому, очевидно, подход к нему должен быть совершенно иным. Совершенное знание изложено в Ведах и Упанишадах, которые должны были рецитироваться жрецами в процессе их профессиональной деятельности. «Производя определенное священнодействие, произнося при этом определенное священное слово, жрец (а очень часто и заказчик обряда) должен был вспомнить соответствующий образ, чаще всего эпизод борьбы богов и асуров, либо просто некоторое соответствие, числовое или словесное. Пока участник ритуального действия держит в уме нужный образ (мифологему, соответствие), он знает; после того, как этот образ (и т. д.) выходит из сферы его активного внимания, он не знает. Чем обширнее тот образ, который следует удерживать в активном припоминании, тем, видимо, дольше сохраняется состояние знания и, добавим, тем больших усилий это требует от человека, стремящегося “знать”»[198].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Брахман и история.Историко-философские концепции современной веданты"
Книги похожие на "Брахман и история.Историко-философские концепции современной веданты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Бурмистров - Брахман и история.Историко-философские концепции современной веданты"
Отзывы читателей о книге "Брахман и история.Историко-философские концепции современной веданты", комментарии и мнения людей о произведении.