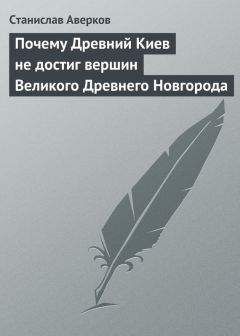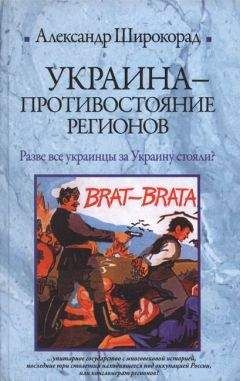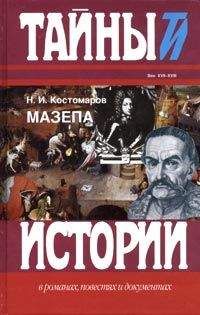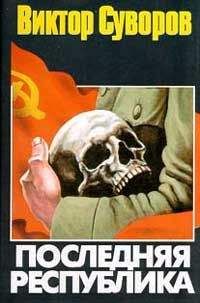Николой Костомаров - Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки).
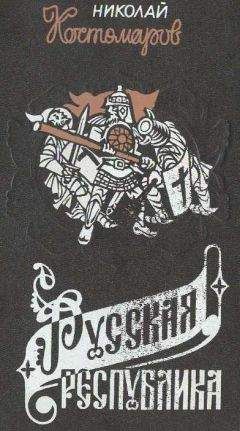
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки)."
Описание и краткое содержание "Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки)." читать бесплатно онлайн.
Становление российской государственности переживало разные периоды. Один из самых замечательных — народное самоуправление, или "народоправство", в северных русских городах: Новгороде, Пскове, Вятке. Упорно сопротивлялась севернорусская республика великодержавным притязаниям московских князей, в особенности не хотелось ей расставаться со своими вековыми "вольностями". Все тогда, как и сегодня, хотели быть суверенными и независимыми: Новгород — от Москвы, Псков и Вятка — от Новгорода. Вот и воевали без конца друг с другом, и бедствовали, и терпели разорения от Литвы, Польши и Орды до тех пор, пока Иван III твердой и умелой рукой не покончил с северной вольницей и не свел русские земли в единое Московское (Российское) государство. Тяжело было северным городам расставаться со свободой, но этот исторический процесс был неизбежен, иначе великой Российской державы могло не быть. Работа Н.И. Костомарова дает строго научную и объективную картину вечевой республики, и сегодня, в период кризиса российской государственности, читается с особым интересом.
Книга воспроизводится по санкт-петербургскому изданию 1903-1906 гг. В тексте отчасти сохранены орфография и пунктуация автора.
Между прочим, предки наши познакомились, как кажется, с сохранившимися от времен Оригена мыслями о несообразности вечного мучения грешников с беспредельным милосердием Божиим, как это показывает одно слово, обращенное к тем, которые отрицают вечную муку[237]. Только чрез критическое рассмотрение, какие именно подобные сочинения ходили у нас в древности, можно приблизительно добиться, какого рода стихии, противные церкви, вместились в русскую умственную религиозную жизнь.
Когда в самой православной философии заключались такие семена противодействия общепринятому и усвоенному веками порядку понятий и благочестивой деятельности, злоупотребления в иерархии всегда могли возрастить эти семена и дать им развитие. Нигде так легко не могла прорваться явная оппозиция, как во Пскове. Мы видели, что, сознавая свою отдельность и самобытность от Новгорода в политическом и гражданском отношении, он тяготился зависимостью от новгородского владыки по церковному управлению и суду. Желание иметь своего владыку осталось безуспешно. Отсутствие епархиального начальника лишало правильного надзора сферу благочестия. Там свободнее, чем где-нибудь, могли воспитаться идеи оппозиции против существующего порядка; а между тем, непрестанные столкновения между духовенством и мирянами могли их и возбуждать, и поддерживать. Мы видели, как, с одной стороны, духовенство роптало на вмешательство веча в церковные дела, — вмешательство, которое иногда происходило по необходимости, по поводу отсутствия церковной иерархической власти. С другой стороны, владыка и его софийский двор, подававшие постоянно поводы к жалобам на свою бездейственность и медленность по управлению и суду во Псковской Земле, в то же время старались неослабно и бдительно поддерживать свои права на собрание пошлин: таким образом, казалось, что Псковская Земля в церковном отношении была какою-то оброчною статьей новгородского церковного управления. Издавна в христианской Церкви посвящение в церковный сан за деньги, вследствие подкупа, считалось в высшей степени богопротивным делом, достойным порицания. На это указывала грамотным людям и Кормчая, бывшая тогда одним из обычных предметов чтения. Ничего не могло быть естественнее, если реформационная оппозиция против Церкви уцепилась, так сказать, за эту тонкую струну. Духовные, посвящаясь в сан, и получая места, платили пошлины. Прежде посвящения кандидат на священническое место должен был искать его чрез посредство архиепископской канцелярии (софийской палаты); не обходилось без подарков. Разумеется, в таком случае нередко пролагало путь к месту более хорошее отношение к софийскому двору, чем собственное достоинство. Да вообще и без этого могло случиться, что человек, вполне достойный по своим качествам и способностям, приготовленный к духовному званию, не получал места единственно потому, что не мог заплатить пошлины; тогда как другой скорее получал его, единственно потому, что имел состояние для потребной платы. Таким образом, нападки на эти пошлины, упреки, что духовное управление нарушает уставы Церкви, посвящая священнослужителей по мзде, послужили началом возникшей ереси, известной под названием Стригольнической.
Время раннего явления этой ереси неизвестно, как равно и предварительные обстоятельства, служившие к ее проявлению ближайшими поводами: ибо мы достоверно знаем только время казни ересеначалышков в 1374 году. Их было трое: какой-то неизвестный по имени диакон Никита и Карп, которого софийская летопись называет простцем, а Супрасльская также диаконом. Верность последнего известия подтверждается и посланием патриарха Антония, где говорится, что Карп был отставлен от службы, следовательно, был прежде духовным лицом. В "Просветителе" Иосифа Волоцкого Карп назван художеством стригольник. Что такое стригольник— неизвестно; но это известие не противоречит первому о духовном сане Карпа. Будучи дьяконом, мог он заниматься ремеслом, а может быть, принялся за ремесло, лишившись сана. Проповеди ересиархов возбудили против них преследование во Пскове. Они бежали в Новгород, продолжали там свою проповедь, нашли последователей, но вооружили против себя народ. В 1374 году их сбросили с моста в Волхов. Однако насеянное ими семя не пропало: из него пошло свежее дерево.
Два послания патриарха Антония об этой ереси, дошедшие до нас, писаны уже по смерти ересеначальников: — первое в 1388, второе после 1388-го года [238]. Из этих посланий видно, что еще прежде патриарх Нил посылал на увещание стригольников Дионисия, архиепископа суздальского, возведенного в митрополиты — это должно было случиться около 1382 года, сообразно летописи [239].
Ни казнь трех философов, ни патриаршеские послания не истребили ереси: она распространялась и в XV веке, и митрополиты должны были писать не одно послание, убеждая православных преследовать лжеучение. Сильнейшее из таких посланий, известное нам, было отправлено митрополитом Фоти-ем в 1427 году, после того как псковичи писали об этом к митрополиту с своим посадником Федором. Перед тем многие из еретиков были умерщвлены, другие заточены в тюрьмы, третьи разбежались. Фотий похвалял ревность преследователей, не одобрял, однако, смертной казни и советовал лучше употреблять наружные наказания, и заточение в тюрьму. Православные, по убеждению митрополита, должны были остерегаться есть и пить с тем, кто уличался в ереси. Эта секта, как видно, тогда была не настолько многочисленна, чтоб дать отпор гонению, но и не так ничтожна, чтоб от этого гонения исчезнуть совершенно. Как в Новгороде, так и во Пскове она продолжала существовать в XV веке, потому что в 1496 г. архиепископ Геннадий писал к митрополиту Зосиме, убеждая его защитить его от какого-то чернеца-стригольница[240]. Притом, разбежавшиеся от преследования из родины разнесли свое учение по Руси, и способствовали повсеместно дальнейшему развитию реформационных зачатков,
Еретическое направление увлекло образованнейших людей во Пскове, так называемых, по выражению того века, филозофов. Патриарх, обличая их, сравнивает их с книжниками евангелия и укоряет в высокоумии [241]. Сам Карп был литератор: он составил сочинение, где доказывал свои положения [242]. Собственно эта оппозиция была вполне критикою духовенства и церковного порядка. Подвергнуть порицанию обычай при посвящении платить пошлины, что давало вид посвящения в сан за деньги. Ересиархи, вооружаясь на это, нападали на богатства духовенства, указывали в противоположность на евангельскую нищету и приводили в свидетельство тексты [243]. Образ поведения святительского и образ жизни в монастырях подверглись равно их критике; они говорили: "се многа собираете имения". Они укоряли священников в жадности и корыстолюбии в таких же выражениях, какие до сих пор можно услышать в народе. "Что это за учители!— говорили они: — пьют с пьяницами, взимают с них золото и серебро, и порты от живых и мертвых!" Невольно явилась общая везде всем реформационным движениям мысль о превосходстве прямого нравственного человеческого достоинства пред всякими символическими знаками, которым приписывается таинственное воздействие на человеческое существо. Смысл их толкований был таков, что дары Духа Святаго, раздаваемые духовными, недействительны, когда духовное лицо не соответствует своим нравственным совершенством возложенному на него сану. Ни Карп, ни его товарищи и последователи в начале не показывали явного охуждения того, что составляет сущность Церкви, но добираясь до этой сущности и находя несообразным с нею то, что делалось и допускалось в Церкви, — они в то же время подрывали все видимое здание Церкви [244].
В деле размышления о делах религии всегда бывает так, что как скоро в голове мыслителя духовенство не выдерживает кри-тики.то вслед затем подвергаются обсуждению и уставы, и шаг за шагом мысль идет к дальнейшему разрыву со всем, что принималось по авторитету. Как скоро в глазах стригольников духовенство потеряло к себе высокое уважение, находили в нем пороки, и как скоро нашли неправильность в получении духовными сана, то естественно возникла мысль, что нельзя приходить к ним для отправления таинств, а вместе с тем и таинства, совершаемые недрстойными людьми,— недействительны[245].Но критика не ограничилась современным духовенством. Люди книжные, ученые, стригольники, принялись и за церковную историю, и увидели, что и прежде посвящение совершалось так же. Таким образом, на основании признания недостоинства духовных, посвященных с дарами, размышление должно было доходить до признания недостойным всего существующего и существовавшего духовенства [246].
Естественно, что и вселенские соборы, с поставновлениями которых оказывалось согласным то, что в современном своем приложении соблазняло стригольников, должны были подвергаться осуждению [247]. Чрез такой логический переход мысли от одного предмета к другому все церковное здание падало и теряло свою святость в умах еретиков. Антоний, в своем обличительном послании, задает стригольникам такой вопрос, который должен был неминуемо им самим придти в голову еще прежде: "вам же где поставити попа по своей окаянной вере? Не приде бо Христос второе вплотися на землю, ни снидеть ангел освятити вам попа" [248]. Очевидно, положение стригольников должно было несколько времени походить на положение нынешней беспоповщины. Признавая Церковь и все ее уставы и обряды, беспоповцы не пользуются ими за неимением, по их мнению, лиц, которые были бы достойны принять сан, дабы соблюдать и совершать возложенное на этот сан Церковью. Но раскол, после Никоновой реформы, имел корень в букве, и приверженность последователей обращалась к неизменности буквы; следовательно, положение, в какое пришли беспоповцы, не могло повести их к установлению чего-нибудь особого, отдельного, нового. Для беспоповцев с нарушением буквы, духовенство, дозволившее себе это нарушение, перестало быть духовенством, и Церковь, которую признавало это духовенство, не была Церковь; но для них продолжала неизменно существовать Церковь старая, — Церковь, лишенная духовенства: беспоповцы очутились в таком положении, в каком бы находились и православные, если бы судьба бросила их в землю, где нет духовенства. Тогда мирянин исполнял бы то, что дозволено Церковью исполнять мирянину, и с соболезнованием должен был бы лишаться того, что мог, по уставу Церкви, получить единственно от духовного лица. Очень понятно, что мысль беспоповца могла оставаться в продолжение веков в такой парализации. Но стригольники не с того начали; их вопрос касался не буквы, а сущности порядка и нравственности. Не какое-нибудь нововведение возбудило стригольников, а приложение к делу того, что, как они доискались, всегда существовало в восточной Церкви. Поэтому стригольнику легче было, чем беспоповцу позднейших времен, перейти от недовольства существующим к установлению чего-нибудь своеобразного. После отвержения священства и всей иерархии, естественно было возникнуть мысли о возможности учить и совершать богослужение и не священнику. Они ссылались на апостола Павла [249]. Достойно замечания, что патриарх, в своей грамоте, в опровержение их приводит такие ^доказательства, которые стригольники могли обратить в свою пользу [250]; еретики потому-то и пришли к необходимости учить вместо священников, что считали последних неверными (недостойными). Взяв на себя роль народоучителей, еретики естественным путем принялись за критику того, что было тесно связано с корыстолюбием, в котором они обвиняли духовенство, именно за вклады по душам, поминовения и вообще за все, что выражалось на благочестивом языке понятием строить душу, и дошли таким образом до отвержения религиозных понятий и обрядов, относящихся к идее умилостивления Божества за умерших [251]. Вместе с тем начали отвергать исповедь: вместо исповеди священнику, можно — говорили они — каяться, припадая к земле[252]. Может быть, в этом обряде, неясно выраженном для нас, действовало, по привычке, древнее языческое олицетворение земли. Вероятно, этот обряд означал тайную исповедь к Богу, а припадание к земле совершалось для того, чтоб иметь возможность сосредоточиться в себе самом. Понятия о причащении, какие у них были после отпадения от Церкви, выражаются неясно в обличении; но видно, что они уж как-то иначе растолковали и объяснили себе смысл таинства Евхаристии [253]. Патриарх счел нужным приводить по этому поводу места из евангелия о Тайной Вечери; это заставляет предполагать, что стригольники стали отвергать видимое таинство причащения, вероятно, толкуя его духовно, как это делали многие еретики и в том числе наши молоканы. Но, подобно последним, стригольники не отвергали поста и воздержания, напротив, уважали произвольный пост и требовали не наружности, но действительного сурового поста — и духовного, и телесного, — и, вероятно, обрекали себя в два постные недельные дня совершенному неядению [254]. Но такой пост, — по замечанию патриарха, — не мог быть поставлен им в заслугу, ибо и "бссермене постятся". Как вообще еретики, они отличались скромным видом, суровым воздержанием, молитвою и книжностью беспрестанно приводили тексты св. писания, толковали о религиозных и нравственных предметах [255].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки)."
Книги похожие на "Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки)." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николой Костомаров - Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки)."
Отзывы читателей о книге "Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки).", комментарии и мнения людей о произведении.