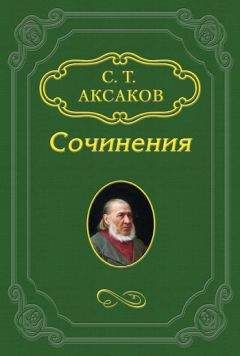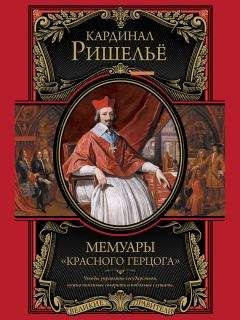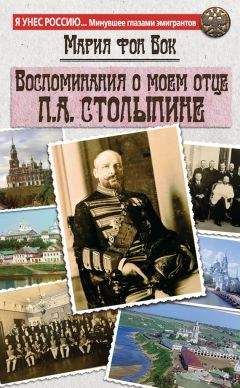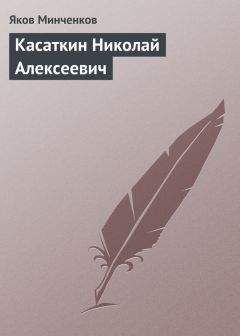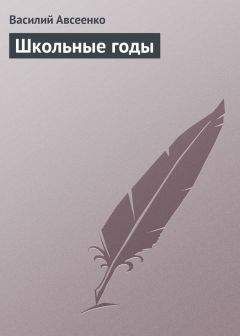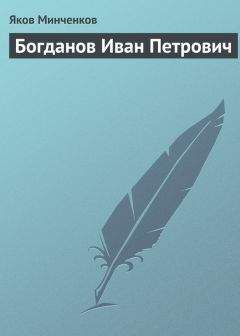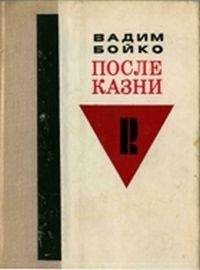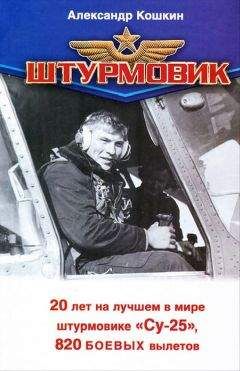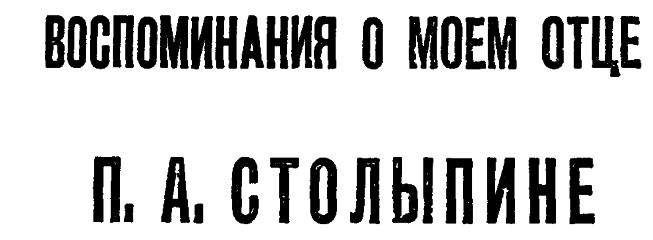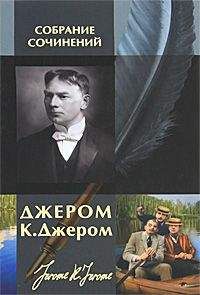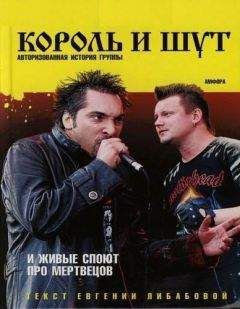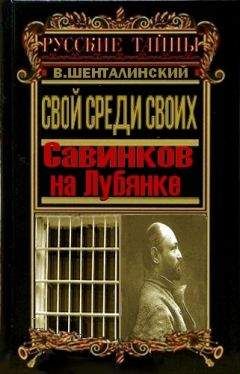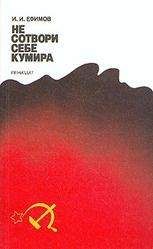Яков Харон - Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии."
Описание и краткое содержание "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии." читать бесплатно онлайн.
Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?
Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах. «Свой фетр снимая грациозно, на землю плащ спускаю я» соседствовало в моем рыцарском лексиконе со строками: «Пустить вам кварту крови квартой шпаги поклялся тот, кто вами оскорблен». Но, в отличие от Сирано, который жил только в моем воображении да в старой серовато-чернильной книжке Ростана, Гийом (это я уже тогда знал) существовал в реальности — в городе Абан за Уральским хребтом. У меня было даже доказательство его присутствия на земле — часы, подаренные мне, часы, на золотом корпусе которых стояли мои инициалы АКС, сплетенные в причудливый вензель.
Нет, нет, читатель, это не бред воспаленного воображения—это наша жизнь, умеющая сплести из нитей чистой, неприкрашенной правды ковер-самолет, или шапку-невидимку, или судьбу Гийома дю Вентре.
Извольте, оставим романтическую часть этой истории, возьмем ее вполне реальные очертания, которые можно подтвердить документами из личного дела, досье, переписки или метрикой, ратентом, справкой о реабилитации.
Жил-был человек по фамилии Харон, хромировал бабки и преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром и валил двуручной пилой кедры, изобретал многоканальную систему звукозаписи и карусельный станок по непрерывной разливке чугуна, присутствовал на премьере «Броненосца „Потемкин"» в Берлине и при убийстве царевича Димитрия в Угличе, бил ломом лунки под взрывчатку и учил сына произносить букву «р» непременно в слове «синхрофазотрон». Был поэтом и педантом, вольнодумцем и ортодоксом, болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет. Был похож на птицу и вообще, и в смысле «мы вольные птицы; пора, брат, пора». И умер в благополучной Москве от лагерного туберкулезного удушья, перехватившего вздох легких.
Вам уже стало понятнее, читатель? Значит, мы на верном пути.
У каждого из нас была своя маркиза Л., у Юрки — даже с именем, начинавшимся на «Л»: Люся. Поэтому, вероятно, столько старания и страдания вкладывали мы в русские заменители французских клятв в любви и верности, поэтому, видимо, сонеты, посвященные маркизе Л., все же ближе к оригиналу, чем другие, хотя бы и трактующие тоску по родине, или жажду свободы, или ненависть к врагам, или иные человеческие страсти и страстишки: там больше элементарных четырнадцатистрочников, чем истинных сонетов. Вероятно, истинный сонет — это все же прежде всего любовь, тут И.-Р. Бехер прав…
La France. La liberte. Le vin. L’amour [45] — не случайно и дю Вентре венчает «четыре слова», воплощающие для него все ценности мира, этим всеобъемлющим словом: любовь.
– Уходя от нас, ты собирался шевельнуть мозгой насчет рамки для пятьдесят второго,— начинал я пилить Юрку спозаранку, когда мы, хронически невыспавшиеся, проклиная гудок и день грядущий, облачались в свои портянки и телогрейки. Намек касался неосторожного Юркиного полуобещания, полупрограммы на .ближайшее будущее, высказанных накануне вечером в порядке «мысли вслух»: надо будет, дескать, поискать рефренную свежинку для этой штуковины с тризной, не то засушим ее усмерть. В нашем содружестве я выполнял обязанности по преимуществу погонялы и редактора, первые — с большим, вторые — с меньшим или, во всяком случае, с переменным успехом. Ежедневное «давай-давай!» служит, если верить крупнейшим авторитетам в области расшифровки феномена «талант», не самым ничтожным компонентом последнего, так что в этой констатации нет с моей стороны ни капли ложной скромности, скорее наоборот. Юрка же был, вне всякого сомнения, основным, истинным, всамделишным талантом — хотя бы по такому неопровержимому признаку, как лень. Я говорю, разумеется, не о производственной его деятельности — там он горел, как дай бог каждому,— а о творческой: если нисходило на него вдохновенье, то, кажется, в виде чуть ли не самостийно возникающих поэтических образов, обычно сразу же в законченной, совершенной форме, а вот работать — над строкой ли, над рифмой — ему было лень. Он морщился и корчился, словно от физической боли, когда приходилось — когда я упрямо требовал — что-то доработать, переделать, уточнить, отшлифовать. Юрке случалось «родить» гениальную строчку, которая и меня немедленно зачаровывала, но через минуту оказывалась, как на грех… шестистопником. Я разражался проклятьями и тут же кидался прикидывать всякие усекновения, чтобы вогнать несуразную новорожденную в законные размеры. А Юрка все пытался как-нибудь увильнуть и о презренной поверке алгеброй гармонии вспоминал, и про «новаторство» дю Вентре — почему бы ему и не ввернуть, если уж на то пошло, хороший шестистопник, если он верно звучит? — но я оставался непреклонен, А злополучная строка оставалась недоделанной — и все из-за Юркиной лени! Впрочем, de mortuis aut bene, аut nihil [46] — да простятся мне придирки мои, как прощены Юрке и лень его, и любовные мимолетности…
– Прости, что я так холоден с тобой,— не совсем уверенно говорил Юрка, краем глаза следя за моей реакцией.
– Взяли,— коротко кивал я, прикинув строку и в начало, и в конец почти готового сонета, в котором до этого не пахло ни любовью, ни вообще чем-либо личным: там были пока еще «вообще ламентации», и даже искренние, горестные, горькие, но все же какие-то безличные, рассудочные, не по-вентревски холодные.
Мы бежали в столовую — лакать утреннюю баланду, потом бежали на завод — кто в механический, кто в инструментальный, смотря по тому, что накануне было роздано в работу. Созвонившись, встречались на отладке приспособления, ругались из-за какой-нибудь непредусмотренной втулки или шпильки, шайбы Гровера или контргайки, не желавших вписываться в габариты станка или пресса, искали и находили — обычно тут же, на месте — выход из положения, сдавали новое приспособление мастеру участка и снова разбегались: Юрка — вносить изменения в технологическую карту и остальную документацию, я — оформлять акт и прочие бумаги для премии рационализатору и для всякой отчетности… Чего греха таить, и у нас бумагомарания хватало, в этом отношении мы не отставали от порядков на воле.
В столовке встречались мы редко, завод обедал в три смены, каждый заскакивал туда, когда было сподручнее. Но после обеда, зарываясь в новую кучу эскизов, в которых сам черт ногу сломать мог. Юрка успевал все же бросить через стол:
– А первый-то катрен — тю-тю, летит к свиньям собачьим. Ты не знаешь, в какую смену работает этот Шурочкин? Надо с ним повидаться — пусть на кулаках покажет, как он себе представляет свою гениальную оправку.
– Во вторую, он Витьку Косого сменяет: третий станок в первом пролете. Чихал бы я на твой первый катрен, там пока голая демагогия и жалкие сопли-вопли. Теперь уж надо тащить от первой, от ключевой строки, понимаешь, что-нибудь такое: все тот же я, может, немного суше — или строже, уж это от рифмы пойдет.
– «Прожил»,— немедленно подхватывал Юрка.— Возьми пирожок с полки. Все тот же я, быть может — суше, строже… Та-та-там, а конец: я так много прожил. Пошел к Шурочкину.
И он убегал по нашим бризовским делам.
А первый катрен жил, вероятно, уже своей собственной жизнью, созревал где-то там, в глубинах подсознания, что ли, мы о нем больше не вспоминали до позднего вечера — до стихов ли тут, в нашей-то круговерти! — но только вечером он являлся во всей своей так называемой выношен-ности и наполненности, и режьте меня на части — не могу я, да и никогда ни я, ни Юрка не могли бы сказать, откуда в нем строка: гоним по свету мачехой-судьбой — самая, на мой. взгляд, полнокровная и дю-вентревская.
Завод работал круглосуточно, в три смены, и многим придуркам приходилось порой крутиться все три смены подряд, так что и не понять уже, когда же люди спали и спали ли они вообще. А уж две смены работать — сам бог велел:
мы знали, что Сталин работает далеко за полночь (с начала войны мы перешли в непосредственное подчинение Ставке Верховного Главнокомандующего, наш начальник то и дело докладывал кому-то «по прямому» — разумеется, не самому, но приказы и разносы передавались ему от имени самого, и тут, у нас, царила уверенность, что эти приказы и разносы вот только что были самим продиктованы тому, кто их передавал начальнику), да и все заводоуправление давно перешло на этакое круглосуточное бдение — совсем как на воле. Начальство после обеда уходило спать и вечерком являлось свеженьким и полным новых сил, но мы как-то не замечали — старались не замечать — этой привилегии: после войны отоспимся! Что ты сделал сегодня для фронта? А как же наши бойцы в окопах? А как же наши братья и сестры на воле да и не на воле — разве спят они?
Работягам было немного полегче: двадцать четыре часа, деленные на три, это восемь часов. Ни в горячих цехах, ни в механическом, за станком на поточной линии, больше восьми и не выдержишь, начнешь пороть брак, сбиваться с ритма. Заготовительные, столярно-кузовной и еще несколько участков работали, правда, по-прежнему, в две смены по десять часов, час на обед и час на пересменку. Ну, а придурки — как начальство, круглосуточно, только без послеобеденной siesta.
…Еще одна заноза в памяти. В шестьдесят четвертом в Италии я в первые дни все не мог понять, почему в два часа дня город словно весь вымирает. Мне охотно объяснили, что в эти часы все итальянцы должны fare un po’ di siesta — поспать после обеда. Долго я не мог вспомнить, откуда знаком мне этот обычай…
Когда спишь урывками, когда день и ночь — особенно зимой — незаметно переползают друг в друга и только по гудкам и по отсчету смен (сорок первая смена сдала на шестьсот двадцать три молотка сверх плана… сорок вторая недодала полсотни отливок запальника…) отмеряешь течение времени, работа, еда, стихи и любовь или ее заменители тоже выходят из графика, вернее, подчиняются иному, необычному графику. Дорвавшись со слипающимися глазами до душевого отсека в котельной и кое-как освободившись от копоти и пота и выйдя в морозную звездную тишь, нарушаемую только уханьем большого молота Бэше где-то вдали, ты непременно прикинешь, какой голод сильнее, и пойдешь не в столовку и не в барак, а в какой-нибудь закуток, где встретишь такую же усталую и такую же голодную душу — были у нас в лагере женщины, целых два барака. Работали и вольнонаемные.
– Прости, что я так холоден с тобой,— скажешь ты ей, или скажет ей Юрка (один скажет, другой будет стоять на вассере): — все тот же я. Быть может, суше, строже. Гоним по свету мачехой-судьбой, я столько видел, я так много прожил…
На тебя будут смотреть широко раскрытые глаза, и голодная душа, быть может, подумает, а если это любовь?
Ты ей ничего не скажешь. И ничего не дашь: ты нищ.
И что такое любовь?
61
ПЕПЕЛИЩЕ
Неубранное поле под дождем,
Вдали — ветряк с недвижными крылами.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии."
Книги похожие на "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Яков Харон - Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии."
Отзывы читателей о книге "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.", комментарии и мнения людей о произведении.