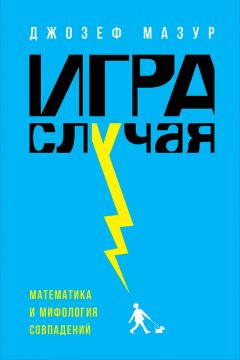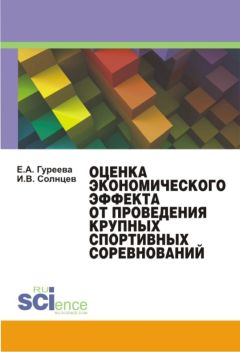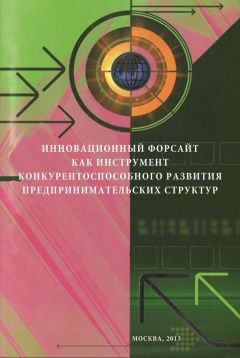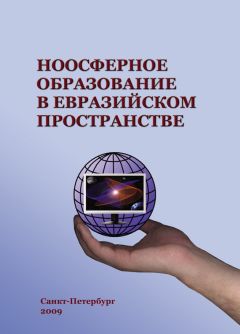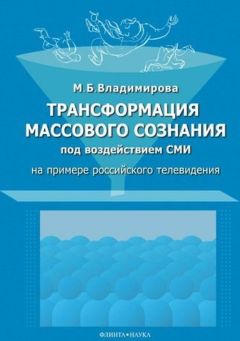Елена Толстая - Игра в классики Русская проза XIX–XX веков

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Игра в классики Русская проза XIX–XX веков"
Описание и краткое содержание "Игра в классики Русская проза XIX–XX веков" читать бесплатно онлайн.
Книга Елены Д. Толстой «Игра в классики» включает две монографии. Первая, «Превращения романтизма: „Накануне“ Тургенева» рассматривает осовременивание и маскировку романтических топосов в романе Тургенева, изучает, из чего состоит «тургеневская женщина», и находит неожиданные литературные мотивы, отразившиеся в романе. Вторая монография, «„Тайные фигуры“ в „Войне и мире“», посвящена экспериментальным приемам письма Льва Толстого, главным образом видам повтора в романе (в том числе «редким» повторам как способу проведения важных для автора тем, звуковым повторам и т. д.); в ней также опознаются мифопоэтические мотивы романа и прослеживаются их трансформации от ранних его версий к канонической. В последней части книги публикуются разборы («Невеста» Чехова) и статьи о классиках русской прозы ХХ века, исследующие малоизвестную публицистику Алексея Толстого середины 1910-х, реминисценции из современных авторов у Булгакова, а также прототипы двух персонажей раннего Набокова.
Хам Стахов оскорбляет Шубина: «Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек». Но тот находит способ быстро поставить его на место: «– О, это не подвержено никакому сомнению! – промолвил Шубин».
Косному Увару Ивановичу он адресует выражения иронического восторга, пародирующие консервативную славянофильскую риторику: «– Ах вы, представитель хорового начала, – воскликнул он, – черноземная вы сила, фундамент вы общественного здания! стихийный вы человек, почтенный витязь» (3, 43).
Шубин способен и на самоиронию: «Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям»; порой его горечь и агрессия оказывается направленной на него самого: так, отвергнутый, он твердит «Мир моему праху!». Ревнуя, он сообщает Берсеневу, теперь товарищу по несчастью, в духе бранчивой откровенности: «„Мы будем, братец, в резерве, как некие ветераны <…> – Там теперь Болгария“, – прибавил он, показав бровями на Елену» (3, 68).
Пересказывая беседу с Инсаровым дамам, Шубин аранжирует ее в ироническом ключе, упоминая «непонятного, но великого Венелина», «здоровье болгарского короля Крума, Хрума или Хрома, жившего чуть не в Адамовы времена». В ответ на попытку Инсарова вернуть разговор в нейтральное русло Шубин хулиганит:
– В девятом столетии, – поправил его Инсаров.
– В девятом столетии? – воскликнул Шубин. – О, какое счастье! (3, 55–56).
В отсутствие Инсарова он не скрывает юмористического к нему отношения как к претенденту на роль современного «героя» (в это время Елена ищет «героев» в духе Карлейля и его культа героев – это как раз середина века). Герой для него возможен только в смысле доисторическом, примитивном – гомеровском или лубочном: «Ирой Инсаров сейчас сюда пожалует!» Раздраженный преувеличенным, как он считает, интересом к Инсарову, он грубит:
– Господин Инсаров молод? – спросила Зоя.
– Ему сто сорок четыре года, – отвечал с досадой Шубин (3, 57).
Но самую резкую агрессию он направляет на мучительно им ощущаемую человеческую ущербность русского общества – таким болезненным контрастом оно выглядит на фоне европейских освободительных настроений, создающих новый, совсем иной тип личности…
Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Все – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! (3, 139).
Очаровательное легкомыслие Шубина приносит ему счастливые выражения и удачные каламбуры: «стоит только турок вытурить, велика штука!» (3, 59).
Помимо Шубина, агрессивная сверхвыразительность попадает и в речь других персонажей, например Анны Николаевны Стаховой, восклицающей в шоке от перемены, произошедшей с Инсаровым: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка – и она его жена, она его любит… да это сон какой-то…» (3, 143). И даже в авторский нарратив затесалось несколько подобных выражений, например «неблаговидный лакей» – притом что по-русски неблаговидным может быть только предлог, – или «один уже совершенно чирый немец» (в смысле «налившийся») в сцене скандала в Царицыне.
Косноязычие и оборванная речь. Именно в «Накануне» Тургенев вводит и иррациональные речевые элементы: косноязычие (у Увара Ивановича) или его фразы, часто имеющие эффект если не абсурда, то загадки, то есть неочевидного смысла. Увар косноязычен, толст, медлителен и ведет растительное существование. И обычная-то коммуникация его односложна, но тяжелее всего ему интеллектуальное усилие: «…и только в затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: „Надо бы… как-нибудь, того…“» (3, 38–39). Когда на прогулке в Царицыне Инсаров бойцовским приемом посрамил пристававшего к девушкам немца, бросив его в пруд,
…громче всех, и дольше всех, и неистовее всех хохотал Увар Иванович: он хохотал до колотья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного да проговорит сквозь слезы: «Я… думаю… что это хлопнуло?.. а это… он… плашмя…» И вместе с последним, судорожно выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, говорит, вижу, ноги по воздуху…» – «Да, да, – подхватит Увар Иванович, – ноги, ноги… а там хлоп! а это он п-п-плашмя!..» – «Да и как они это ухитрились, ведь немец-то втрое больше их был?» – спросила Зоя. «А я вам доложу, – ответил, утирая глаза, Увар Иванович, – я видел: одною рукой за поясницу, ногу подставил, да как хлоп! Я слышу: что это?.. а это он, плашмя…» (3, 75).
При всей своей нечленораздельности Увар может быть довольно проницателен: когда по прошествии некоторого времени после прогулки в Царицыне Елена, чтоб скрыть свое отчаяние, улыбается Увару и цитирует «Плашмя!», он вовсе не радуется ее вниманию, а встревожен; а когда Шубин, начав с похвал Инсарову, сворачивает на самого себя, Увар ставит ему это на вид: «Далека песня».
Гоголь с большим искусством изображал дефектную, скомканную, засоренную, обрывочную речь. Тургенев использует гоголевский прием не в целях потешной характеристики говорящего, а ради трагического эмоционального наполнения. В душераздирающей сцене прощания отцу Елены не удается закончить ни одной фразы, и вся его речь производит впечатление абсурда, с добавочным нюансом того, что ничего и нельзя было бы сказать имеющего смысл в этой заведомо безнадежной ситуации. Николай Стахов появляется неожиданно: ранее он осудил дочь за тайный брак и не желал с ней иметь ничего общего. Но все-таки в последний момент проводов он приезжает с шампанским и дарит Елене ладанку-оберег. Его речь предваряется следующей фразой: «Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные, недосказанные желания, обещания писать, последние, полусдавленные прощальные слова…» (3, 145). Эти-то полусдавленные и недосказанные слова и иллюстрируются речью Стахова:
– Ну! – сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели, – надо проводить… и пожелать… – Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее. – Дай бог вам… – начал Николай Артемьевич, и не мог договорить – и выпил вино; те тоже выпили. – Теперь вам бы следовало, господа, – прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой. – Смотри ж, пиши нам, – говорил он прерывистым голосом (Там же).
Последняя фраза не прервана, зато говорится она прерывистым голосом.
Иррациональное в речи. Елена тайно посещает больного возлюбленного и уходит. Берсенев же остается ухаживать за Инсаровым.
– Один? – спросил больной.
– Один.
– А она?
– Кто она? – проговорил почти с испугом Берсенев.
Инсаров помолчал.
– Резеда, – шепнул он, и глаза его опять закрылись (3, 120).
Это не заумь, хотя у Тургенева находили и заумь[72]. Это лишь по видимости пленительный абсурд, он только внешне неотличим от бреда тяжелобольного. Ведь ранее Елена, надушенная резедой, уже посетила Инсарова в его жилище: поэтому и теперь, находясь в почти бессознательном состоянии, он уверен, что она опять приходила. «Кто она – резеда» напоминает о куртуазном языке цветов, имевшем восточное происхождение и введенном в Европе в конце XVIII века (в России о нем в 1830 году вышла книга поэта Ознобишина), и о салонной игре в цветы, где надо догадаться, кто скрывается под названием цветка. Невидная, бело-зеленая резеда в языке цветов в одной из систем означает «Как этот цветок тихо пахнет без богатства красок, так и ты обладаешь благодетельными талантами без внешнего блеска и пышности», в другой – «Не твоя красота, но доброта пленили мое сердце», то есть символический смысл этого цветка – скрытая добродетель. На сюжетном фоне шокирующего, по тогдашним понятиям, поведения Елены эта аллюзия утверждает ее нравственную правоту.
Заумь. Задает тон в приемах фонетической сверхвыразительности опять Увар, который в царицынском эпизоде кричит щеголеватым гребцам: «Ну, ну, фуфыри!» Подобно гоголевским героям, он «Раз только в жизни… пришел в волнение и оказал деятельность» – это случилось, когда он «прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке: „контробомбардоне“ и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и чрез какую контору?» (3, 38). Увар воплощает русскую неподвижность и косность, провинциальную до дикости, и очаровавший его «контрабомбардон» нужен как карикатурный сверхвыразительный звуковой образ глупости. Кстати говоря, в тогдашних газетах действительно мелькнуло упоминание об этом гибридном музыкальном инструменте.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Игра в классики Русская проза XIX–XX веков"
Книги похожие на "Игра в классики Русская проза XIX–XX веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Толстая - Игра в классики Русская проза XIX–XX веков"
Отзывы читателей о книге "Игра в классики Русская проза XIX–XX веков", комментарии и мнения людей о произведении.