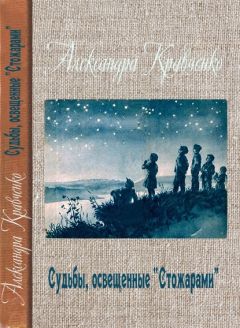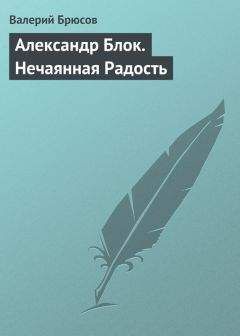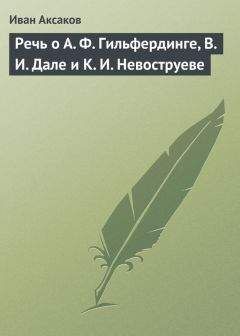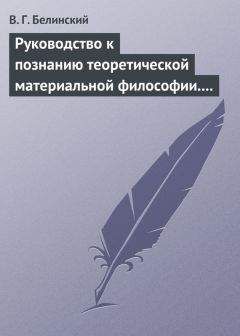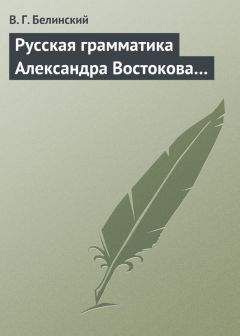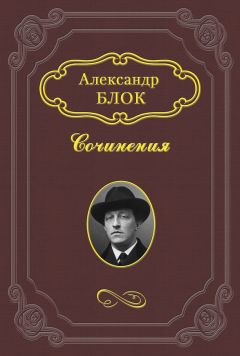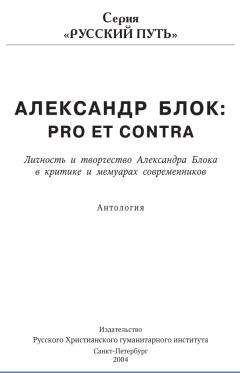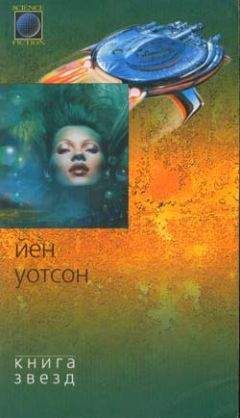Аркадий Блюмбаум - Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока
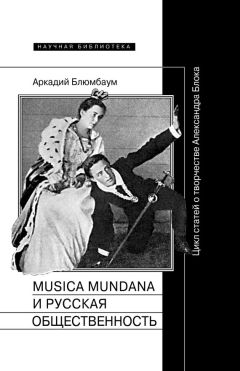
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока"
Описание и краткое содержание "Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока" читать бесплатно онлайн.
В центре внимания книги – идеологические контексты, актуальные для русского символизма в целом и для творчества Александра Блока в частности. Каким образом замкнутый в начале своего литературного пути на мистических переживаниях соловьевец Блок обращается к сфере «общественности», какие интеллектуальные ресурсы он для этого использует, как то, что начиналось в сфере мистики, закончилось политикой? Анализ нескольких конкретных текстов (пьеса «Незнакомка», поэма «Возмездие», речь «О романтизме» и т. д.), потребовавший от исследователя обращения к интеллектуальной истории, истории понятий и т. д., позволил автору книги реконструировать общий горизонт идеологических предпочтений Александра Блока, основания его полемической позиции по отношению к позитивистскому, либеральному, секулярному, «немузыкальному» «девятнадцатому веку», некрологом которому стало знаменитое блоковское эссе «Крушение гуманизма».
37
В качестве эмблемного лирика Лермонтов устойчиво связывается в сознании Блока с проблематикой случая, как, например, в «Безвременьи»: «Но любовница и двойник исчезали, крутясь, во мгле туманной и возвращались опять, кутаясь в лед и холод, вечно готовясь заискриться, зацвести небесными розами и снова падая во мглу. А демон, стоящий на крутизне, вечно пребывает в сладком и страстном ужасе: расцветет ли „улыбкой розовой“ ледяной призрак? В ущельях, у ног его, дольний мир вел азартную карточную игру; мир проносился, одержимый, безумный, воплощенный на страдание. А он, стоя над бездной, никогда не воплотил ничего и с вещей скукой носил в себе одно знание: Я знал, что голова, любимая тобою, / С моей груди на плаху не падет. На горном кряже застал его случай, но изменил ли он себе? „На лице его играла спокойная и почти веселая улыбка… Пуля пробила сердце и легкие…“ Кому? Тому ли, кто смотрел с крутизны на мировое колесо?» [Блок VII, 27-28] (ср. также мотивы азартной карточной игры в статье Бориса Садовского 1911 года, где Лермонтов спроецирован на героя «Штосса» Лугина: «Вся жизнь Лермонтова – игра с призраком; решающей ставкой был поединок 15 июля 1841 года, когда последняя карта была убита» [Садовской 1916: 11]). Ср. также в докладе 1910 года «О современном состоянии русского символизма», где Блок пишет о «гибели» поэта от «играющего случая»: «Этой лирикой случая жил Лермонтов» [Блок 1962: 436]. «Играющий случай» восходит к «Грядущим гуннам» Брюсова: «И что, под бурей летучей, / Под этой грозой разрушений, / Сохранит играющий Случай / Из наших заветных творений?» (см. комментарий [Блок VIII, 420]).
38
Специфика символистских интерпретаций оперы Чайковского, ставшей важным событием культурной жизни 1890-х годов, ждет своего исследователя (см. красноречивый мемуар о рецепции «Пиковой дамы» одним из видных деятелей модернистской культуры [Бенуа 1993: 650-656]); некоторые подступы к теме, впрочем, весьма беглые, намечены в [Gasparov 2005: 159-160].
39
Укажу лишь несколько составляющих эту традицию текстов, где важную роль играет «метель»: «Метель» Вяземского, «Бесы», «Метель», «Капитанская дочка» (глава «Вожатый») Пушкина (сопоставление «Метели» Вяземского и «Бесов» см. [Смирнов 1994: 46-51]; см. истолкование Михаилом Гершензоном пушкинских «Бесов» и «Метели» как текстов об утрате пути и судьбе [Гершензон 1919: 128-137]; о связи «Снежной маски» и «зимних» стихов Пушкина, прежде всего «Бесов» см. [Минц 2000: 198]), «Метель» В. А. Соллогуба, «Метель» и «Хозяин и работник» Л. Толстого, «Метель» Г. Чулкова ([Чулков 1917: 170-175]), «Метель» Пастернака, «Вьюга» Михаила Булгакова – и вплоть до густо литературной «Метели» Владимира Сорокина (2010), откровенно «переписывающего» русскую классику. «Метель» как «утрата пути» появляется и в текстах, где образ «метели» возникает лишь мимоходом, хотя играет важную семантическую роль, как, например, в «Светлане» Жуковского: «В страшных девица местах; / Вкруг метель и вьюга. / Возвратиться – следу нет…» (напомню, что фрагмент «Светланы» с описанием метели Пушкин взял в качестве эпиграфа к «Метели»). Ср. также мотив кружения у Вяземского («Степь поднялася мокрым прахом / И завивается в круги»), в «Бесах» («В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам»), а также мотивы кружения потерявших дорогу путников и кружения снега в толстовской «Метели» (ср. также мотивы кружения и возврата, связанные с образом метели у Андрея Белого в «Кубке метелей», а также в «Мятели» Бориса Пильняка: «…метель замела, завила, закружила» [Пильняк 1922: 119]). Очевидно, «метельный» контекст проблематики «пути» (cр. реплику Блока в мемуаре Е. Ф. Книпович: «Знаете „Снежную маску“, вот тогда я заблудился» [Книпович 1987: 75]) стоит учитывать и при анализе «Двенадцати», где сквозь традиционную метель, препятствующую обретению пути («Разыгралась чтой-то вьюга / Ой, вьюга, ой, вьюга! Не видать совсем друг друга / За четыре за шага!»; в начале 1930-х пушкинские «Бесы» и метель «Двенадцати» бегло сопоставлялись в докладе, автором которого мог быть П. Флоренский [Петроградский священник 1931: 90], а в конце 1930-х об этом вскользь писал Мережковский [Мережковский 1998: 103-104], см. также [Магомедова 1990], здесь же приведена литература вопроса), идут твердым «державным шагом» (то есть как знающие путь) двенадцать красногвардейцев, с которыми движется (ведет?) неясный им, но тем не менее возглавляющий шествие Христос (причем остальные герои поэмы, представители «старого мира», или передвигаются с трудом, спотыкаясь и падая, или стоят), ср. в дневниковой записи Блока от 10 марта (25 февраля) 1918 года о «Двенадцати»: «Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь „Исуса Христа“» [Блок 7, 330].
40
См. пронизанную авторской иронией реплику «Человека в пальто», «дешево» предлагающего Поэту камею: «Рад служить русской интеллигенции» [Блок VI, 69].
41
Трудно согласиться с высказанной в работах Д. М. Магомедовой мыслью о том, что образ мирового оркестра у Блока является результатом восприятия опер Вагнера.
42
Шпитцер отмечает, что после того, как в европейских языках concert утвердился в современном значении «концерта», прежняя семантика «согласия» и «порядка» продолжала существовать [Op. cit.: 220]; см. современный Блоку пример: «Конечно, подведение общего итога становится еще труднее, раз приходится не только принимать в соображение возможность слияния отдельных конечных гармоний и дисгармоний в бесконечную, универсальную гармонию целого, но и обратить внимание на те стороны бытия, в которых дисгармонии принадлежит господство, так что трудно представить себе, как бы могла она перейти во всеобъемлющую гармонию. Такие области – самостоятельной части бытия; от них нельзя поэтому отделаться замечанием, что в великом мировом концерте они играют подчиненную роль» [Геффдинг 1903: 264-265]. В двух значениях начинает использоваться и «оркестр». Шпитцер, специально почти не останавливающийся на образе оркестра, приводит хорошо известный пример из сферы политико-дипломатической лексики – образ «европейского концерта», европейского «равновесия», политического согласия и гармонии; в текстах XIX века «европейский концерт» нередко подается с помощью оркестровой метафорики – «jetzt wird Frankreich die erste Violine spielen» и т. п. [Spitzer 1963: 220-221]. Другой пример, приведенный в исследовании Шпитцера, – письмо Беттины фон Арним, где она использует образность симфонического концерта, говоря о героической борьбе с Наполеоном Андреаса Хофера и его соратников, жертвовавших своими жизнями ради общего дела, общей высокой цели. Она разворачивает этот метафорический ряд до предела, до гармонического образа рода человеческого как оркестра: «…so mag wohl die musikalische Tendenz des Menschengeschlechts als Orchester sich versammeln» (см. также комментарий к этому фрагменту [Op. cit.: 221]; замечу также, что сам Шпитцер использует образ «world orchestra» на протяжении всей книги как синоним мировой гармонии и «мирового концерта»). По-видимому, с ритмическим строем такого «мирового оркестра» (временами понимавшегося отчетливо «национально») Блок стремился согласить ритмический строй своей поэзии.
43
Благодаря этому в сознании Блока как «путь», так и «Судьба» приобретают черты гармонической, ритмической упорядоченности. С подобным представлением Блок столкнулся еще в начале 1900-х годов, читая статью Н. Минского «Идея Илиады», где практики рапсодов связываются с топикой «мировой гармонии» (представления, отсутствующие у Гомера, на что мне любезно указал Борис Маслов), а судьба обладает «мерной», «гармонической» структурой «размеренной», терапевтически воздействующей на слушателей песни: «Гомериды и рапсоды первобытной Греции смотрели на свои песни, как на священный культ, и они, в самом деле, служили сильнейшей и древнейшей из богинь, были жрецами Судьбы. Не с целью потешать и не ради выгод странствовали из города в город эти вдохновенные старцы, с посохом с одной руке и с цитрою в другой, а потому, что их призывал голос божества. <…> Цари и князья той эпохи проводили большую часть жизни на войне, на охоте, в атлетических упражнениях, и только для отдыха являлись в свои чертоги, где устраивали обильные пиры. <…> И вот является рапсод, садится среди пирующих и начинает петь, не возбуждая, но скорее успокоивая, охлаждая дикую энергию своих слушателей и самым строем песни, однообразным, медленным ритмом гекзаметра, и ее содержанием – повестью о человеческих страданиях и подвигах, о всеукрощающей силе судьбы, вносящей порядок и гармонию в нашу жизнь. Не проповедуя никакой определенной мудрости, но чутьем угадывая во всяком явлении присутствие великого разума, Гомер и гомериды создали не философию и не религию, а красоту» [Минский 1896: 3]. Блок конспектировал статью Минского для университетского реферата о Гомере, хотя приведенный выше фрагмент в его конспект не попал [Анпеткова-Шарова, Григорьян 1980: 214].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока"
Книги похожие на "Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Аркадий Блюмбаум - Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока"
Отзывы читателей о книге "Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока", комментарии и мнения людей о произведении.