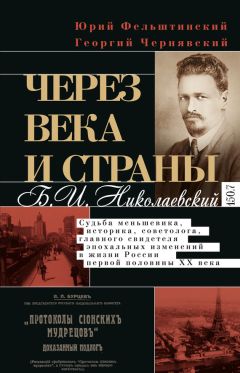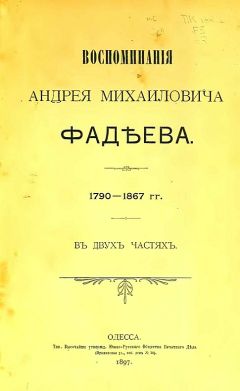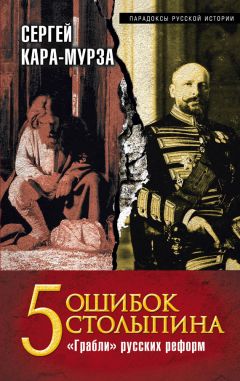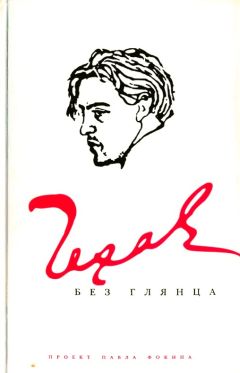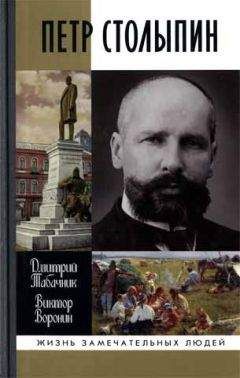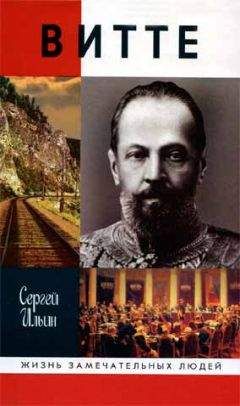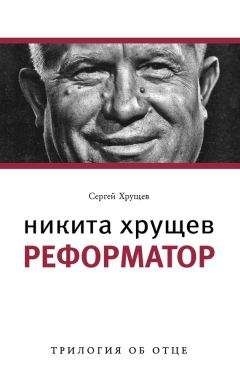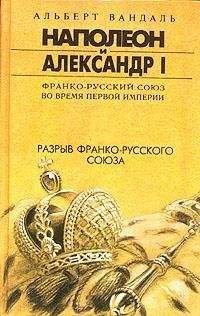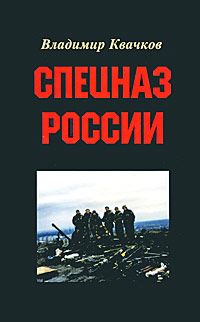Элла Сагинадзе - Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы"
Описание и краткое содержание "Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы" читать бесплатно онлайн.
Почему в России до сих пор нет памятника С.Ю. Витте? Сделавший головокружительную карьеру благодаря своим талантам, а не рождению, этот российский деятель был архитектором крупнейших экономических и политических преобразований начала ХХ века. Его имя символизирует стремительный промышленный подъем, широкое строительство железных дорог, золотовалютную реформу и прочный курс рубля. Наконец, манифест 17 октября 1905 года был подписан царем под давлением Витте и революционных событий и стал первой российской «конституцией». Несмотря на огромные заслуги, Витте не был в почете на родине, разделив таким образом судьбу многих российских реформаторов. В книге молодого петербургского историка Эллы Сагинадзе раскрывается малоизвестная сторона образа Витте – восприятие публикой его деятельности после ухода в отставку. Автор анализирует двойственную репутацию реформатора в контексте фобий русского общества.
Многие сотрудники Витте хорошо знали об ограниченности его теоретической подготовки. К примеру, А.Н. Гурьев, приближенный к Сергею Юльевичу чиновник Министерства финансов и публицист «Нового времени», в одном из писем А.С. Суворину заявлял: «Прошу Вас не считать меня каким-то панегириком г. Витте: я совершенно не сочувствую его направлению, так как вижу в нем неоспоримое доказательство совершенного отсутствия и теоретических, и практических сведений в экономической и финансовой области»[107]. Между тем Гурьев, как и публицисты «Биржевых ведомостей», рисовал на страницах печати образ Витте как теоретически подкованного главы министерства.
«Гражданин» князя В.П. Мещерского долгое время поддерживал экономический курс Витте[108]. Газета считалась близкой к Сергею Юльевичу: министр по приказу государя передавал князю деньги на ее издание. Мещерский и Витте в 1890-х годах тесно сотрудничали, в чем министр позднее раскаивался[109]. Интересно, что «Гражданин» пытался отвести от Витте расхожее обвинение в том, что его реформы привели к широкому распространению грюндерства и отдали Россию на откуп иностранным предпринимателям. Один из авторов «Гражданина» – И.И. Колышко, литературный сотрудник Витте, – заявлял:
Лихорадка промышленного расцвета, ажиотаж всякого рода и сближение на всех поприщах с внешними формами жизни Запада породили армию лиц с раздраженными вкусами, поверхностной трудоспособностью и отсутствием всякого мировоззрения. Эти лица, цепляясь за народ и интеллигенцию, бродя возле великолепных сооружений, воздвигнутых на иностранные деньги, – голодные, обездоленные – потеряли меру русской действительности, и в думах их стерлась русская идея. Вот такая муть лежит на дне реформ последнего десятилетия, но винить за нее вдохновителя этих реформ вряд ли справедливо[110].
Колышко стремился отделить министра от нарождавшегося класса капиталистических дельцов и биржевиков, отношение к которым в обществе было отрицательным. Рост влияния предпринимателей в различных областях хозяйственной жизни не сделал их главной общественной силой. Так, представитель делового мира профессор И.Х. Озеров вспоминал: «Русское общество в вопросе индустриализации России стояло на очень низком уровне. Русское общество жило дворянской моралью – подальше от промышленности – это-де дело нечистое и недостойное каждого интеллигента»[111]. Политическая ангажированность статьи Колышко тем более ясна, что в своих воспоминаниях, вышедших уже в 1930-х годах, написанных в эмиграции, он отстаивал противоположную точку зрения[112].
В газетной публицистике расхожим стало сравнение Витте с самым известным российским реформатором – Петром I. К примеру, М.О. Меньшиков писал:
В деятельности министра финансов перед нами прямо гениальный, методически развиваемый, грандиозный план, который по внутреннему существу очень похож на дело Петра Великого. ‹…› Вдумайтесь в предприятия нашего министра финансов. Поражает их молниеносная решительность и необъятный масштаб. Окиньте глазом столь широко разросшееся государственное хозяйство, неслыханно быстрое развитие железнодорожной сети, необычайно смелую золотую реформу и небывалый по размерам опыт винной монополии. Размах прямо Петровской эпохи![113]
К аналогии Витте с Петром Великим в одной из своих статей прибегнул и публицист В.В. Розанов: «Вообще же говоря, Витте весь стихиен, слеп, силен; “прет”, “ломит”… В нем был осколочек Петра Великого. ‹…› Во всяком случае, ни один человек в России за XVIII, за XIX и вот за десять лет XX века так не напоминает Петра, так не родствен ему по всему составу даже костей своих, нервов своих, мускулов своих, как Витте»[114].
Сразу после смерти Сергея Юльевича, последовавшей в феврале 1915 года, А.С. Изгоев поместил в журнале «Русская мысль» статью о нем, в которой настаивал, что по размаху творческой энергии почивший сановник мог быть приравнен только к Петру I[115]. Редактором «Русской мысли» был выдающийся политик П.Б. Струве, на страницах журнала он пытался отмежеваться от партийного принципа и выражать разные точки зрения[116]. Иначе говоря, подобная аналогия казалась верной авторам изданий разного политического спектра. Сравнения Витте с Петром Великим были, по всей видимости, неслучайны: главными характеристиками Витте как министра являлись смелость преобразований, неисчерпаемая энергия, неутомимость и трудолюбие, настойчивость, а также большой опыт практической работы.
Для либеральных изданий важным при характеристике министра финансов было его внимание к общественному мнению. Так, один из постоянных авторов «Биржевых ведомостей», Г.К. Градовский[117], отмечал, что денежная реформа, важнейшее мероприятие министра финансов, подвергается самому активному общественному обсуждению:
Реформу надо обсуждать до тех пор, пока не будут рассеяны все существующие относительно нее «предубеждения» ‹…› Обязанность печати – подготовить общество к предстоящему денежному преобразованию. Она выполнила уже отчасти эту обязанность; многое уже выяснилось, спорные вопросы сгладились, пришли к довольно единодушному мнению. Это очень поучительная история, наглядно свидетельствующая о той пользе, которую приносят печать и свободный обмен мнений. Необходимо было бы иметь в виду эту пользу и во всех других делах и случаях, точно так же, как и при обсуждении положения самой печати[118].
Ярким примером либеральной мысли были московские «Русские ведомости». Современники называли газету «органом русской интеллигенции», она была известна и своей оппозиционной направленностью[119]. «Русские ведомости» также положительно оценивали гласность реформы. Благодаря этому денежная реформа, «крайне сложный, сухой и специальный предмет», сделалась «модным вопросом, живо интересующим не только экономистов и финансистов, но и так называемую большую публику. Денежной реформе посвящаются заседания ученых обществ, ей отводят длинные столбцы в газетах; о ней много говорят и практики, и теоретики, и те, кому, казалось бы, решительно все равно ‹…› каков наш расчетный баланс и т. д.»[120]. В «Русских ведомостях» акценты были расставлены иначе, чем в других изданиях. Газета не останавливалась подробно на личности министра, однако замечала, что политика Витте направлена на то, чтобы замаскировать несовершенство российской политической системы с помощью чисто внешних эффектов[121].
На страницах печати Витте-практик отделялся от Витте-теоретика – так же, как проводимый под его руководством экономический курс отделялся от методов его осуществления. Важнейшими характеристиками нового министра были смелость, энергичность, внимание к общественному мнению и небывалый для России размах деятельности. Вместе с тем даже самые убежденные противники государственного деятеля старались, критикуя Витте в прессе, не задевать его лично. Отчасти это объяснялось цензурными запретами того времени и влиянием министра, отчасти – личными отношениями с редакторами изданий.
2. «Враг русского народа»: репутация реформатора в контексте фобий рубежа XIX–XX веков
В последней трети XIX века Российская империя, как и другие монархии континентальной Европы, столкнулась с угрозой национализма. Национализм становился новой идеологией и политическим принципом. Правительство, стремясь приноровиться к вызовам времени, стало проводить политику русификации: традиционное восприятие России как «многонационального» государства сменилось провозглашением «русскости» как главного маркера принадлежности к империи. На повестке общественных обсуждений были важнейшие вопросы внутренней и внешней политики, не потерявшие своей остроты до конца существования монархии: отношения России и Западной Европы, соотношение русского национализма и империи, положение и статус инородцев, а особенно – евреев. Болезненные для общества социально-экономические реформы сделали еврея – далее воспользуемся определением, которое предложил исследователь С. Гольдин, – «ультимативным другим» имперской России и серьезным вызовом ее существованию[122].
В русском националистическом дискурсе рубежа XIX–XX веков еврей был представлен, с одной стороны, как корыстолюбивый капиталистический делец, биржевой спекулянт, притесняющий русское население, а с другой – как безжалостный революционер, стремящийся к уничтожению российской государственности. Немаловажным для идеологии российского антисемитизма был тезис о том, что евреи навсегда останутся чужеродным элементом в общеимперском теле. Эти мотивы были тесно связаны между собой. Широкое распространение имело мнение о существовании некоего «мирового еврейства», которое финансово помогает российским евреям осуществлять внутри страны революционную деятельность.
В условиях, когда антисемитизм и национализм стали важнейшим фактором политической борьбы, обвинения в «юдофилии» или связях с инородцами могли пошатнуть положение даже самого влиятельного министра. Я постараюсь показать, каким образом антисемитизм и другие фобии, распространенные в ту эпоху, влияли на формирование образов Витте. Важна и динамика этого процесса: в зависимости от политической конъюнктуры одни компоненты дискурса становились менее значимыми, а другие, наоборот, приобретали злободневность.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы"
Книги похожие на "Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Элла Сагинадзе - Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы"
Отзывы читателей о книге "Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы", комментарии и мнения людей о произведении.