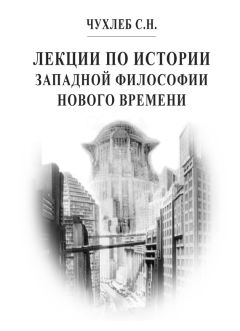Евгений Рашковский - Философия поэзии, поэзия философии
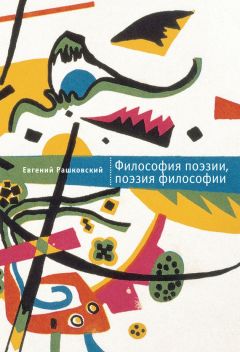
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Философия поэзии, поэзия философии"
Описание и краткое содержание "Философия поэзии, поэзия философии" читать бесплатно онлайн.
Название книги неслучайно. Философия и поэзия – два сродных, но притом специфических, одно в другое без остатка не разменивающихся, поля человеческого воображения и словесного творчества. Об их содержательных различиях – концептуальности философии и спонтанной образности поэзии – написано немало. Немало будет сообщено читателю и на страницах этой книги.
Есть еще одна возможная предпосылка озабоченности Мицкевича еврейской темой: обстоятельство скрывавшееся, но непреложное. Известно, что Маевские, предки поэта по материнской линии, как и целый ряд иных шляхетских родов Речи Посполитой, начинали свое родословие от еврейских сектантов, перешедших в католичество в XVII столетии[108]. И эта родовая полутайна Мицкевичей, возможно, могла быть существенным стимулом для мышления и творчества поэта.
2Итак – «Пан Тадеуш, или Последний наезд на Литве».
Время действия – 1811–1812 годы; трагический эпилог поэмы относится к началу 1830-х годов, ко временам «Великой эмиграции», последовавшей за восстанием 1830–1831 гг.
Место действия – фольварки, замки, деревни и леса Беловежского края (Новогрудский повет Гродненского воеводства бывшего Великого княжества Литовского, территория которого – вследствие разделов Речи Посполитой – перешла к Российской империи, а ныне входит в состав Республики Беларусь).
Сюжет – сюжет как бы своеобразной польской иронической «Махабхараты»: казалось бы, случайно вспыхнувшая братская война, смысл и ход которой оказываются непредвиденными. Однако смысл этот постигается не напрямую, но, скорее, некоторым косвенным, «боковым» зрением: в основе истории – не разрешение внешних людских противоречий, но становление дальних предпосылок внутреннего роста и очищения душ. Очищения – в виду всей преступной запутанности и неразрешимости прошедшей истории и открытости истории будущих времен.
Итак, «Пан Тадеуш» – романтический ирои-комический эпос о мучительном водоразделе двух эпох: эпохи глубокой архаики и эпохи современной, или – если прибегнуть к нынешней терминологии – модерн-эпохи. Наполеоновские войны были для народов Центральной и Восточной Европы едва ли только началом этого водораздела.
Отдаю себе отчет в том, что определение поэмы как ирои-комического эпоса на гранях современности может показаться кому-то парадоксальным, вопиюще нефилологичным. Однако ничего не поделаешь. Таков сам Мицкевич, с его надрывной самоиронией, такова и его поэма: поэма на разломах архаической и современной эпох.
Первая эпоха – уходящая, сгорающая в конкретной истории Наполеоновскимх войн. Эпоха как бы полуприродного, патриархального, ритуализированного и – не побоюсь сказать – отчасти предысторического существования. Предысторического – даже при всей этой вкоренившейся в польскую дворянскую жизнь латыни, галантных манерах и весьма развитой юриспруденции. И всё же в этой шляхетской действительности среди Беловежской пущи доминируют не «цивилизация», не «прогресс» или «демократия» (в этом полупатриархальном, былинном, анимистическом мipe сами эти слова произносятся лишь в иронических контекстах как обозначение чего-то чуждого, излишнего, несуразного)[109], но доминирует погруженность человека в природно-космические ритмы и в регрессию к легендарному «сарматскому» прошлому: решая свою дворянскую распрю, люди склонны, скорее, обращаться не к юридической волоките, но к вооруженному «наезду» (zajazd) на усадьбу оппонента…
Многие исследователи творчества Мицкевича обращают внимание на один характерный след архаического мышления в поэме. Такие обобщающие понятия, как, скажем, «дерево», «зверь», «фрукт», «овощ» – почти отсутствуют, но зато подлежащие этим понятиям предметы до тонкости детализированы. Правда, в Книге 3 поэмы («Игры любви», строки 260–289) существует целый вдохновенный гимн грибам, – но и то: с тончайшей художественной детализацией.
И как ей положено, эта полуприродная, былинная эпоха, словно чудом переехавшая в эпоху регулярных армий, революций и бонапартизма, оказывается эпохой братских клановых войн. Внезапно вспыхнувшая родовая война Горешков и Соплиц[110], вооруженный «наезд», а по существу погром, учиненный графом Горешкой и возбужденной им шляхетской мелкотой против усадьбы Соплиц, – это как бы полукомический вариант войны Горациев и Куриациев, войны Пандавов и Кауравов, кровавых усобиц среди племен Израилевых, как описаны они в «былинных» и хроникальных разделах Библии (Книги Судей, Книги Хроник – Паралипоменон).
Однако этот былинный, полупатриархальный мip, при всём вызываемом им поэтическом умилении (хотя и изрядно сдобренным авторской иронией), предстает в поэме как мip обреченный. Мip на грани распада. И сама былинная, разудалая психология героев – хотя и дополнительный, но всё же действенный фактор этой обреченности. На повестке дня – новый мip, новый эон неумолимой современности.
3Ситуативное предвестие гибели старого мipa начинается на фольварке Соплицово и его лесных окрестностях: с праздника, который включает в себя и медвежью охоту. Клан Соплиц, возглавляемых Судьею (дядей юного заглавного героя поэмы), со своими клиентами и вкупе с молодым графом Горешкой, убивает медведя – как бы тотемного зверя этой патриархальной, шляхетской (можно было бы сказать – «беловежской») Польши[111].
Но вот за страшной гибелью медведя, который в своей агонии чуть было не задрал двух юношей – Тадеуша Соплицу и графа Горешку, – раздаются по всей округе торжествующие звуки рога Войского Гречехи [112], знаменующие победу людей, по существу, над собственным тотемистическим прошлым. И трижды повествует поэт о звуках рога Войского надо всей округой (Книга 4 – «Дипломатия и охота», строки 678–679, 685–686, 694–695):
…wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż graje, a to echo grało.
(«… и всем казалось, // что Войский продолжает играть, но играло эхо»).
Воистину – отходная старому мipy.
Но только вот вослед за торжествующими звуками рога над поверженным медведем и разворачивается в ходе ирои-комического повествования неприглядная правда этого сантиментально-идеализированного, патриархального мipa: спесь, мстительность, коварство, предательские убийства, сутяжничество, насилие. И всё это возможно смыть лишь покаянием и страданием – вплоть до самоотречения и смерти.
Из дальнейшего повествования мы узнаём, что во время штурма екатерининскими войсками родового замка графов Горешек младший брат мудрого и гуманного Судьи – Яцек Соплица – исподтишка убивает некогда незаслуженно оскорбившего его владельца замка, старого графа, а самый замок отходит к Судье Соплице, умеющему при надобности налаживать отношения с российскими властями.
Короче, приоткрывается вся неприглядная «обратная перспектива» агонизирующей магнатско-шляхетской Речи Посполитой.
А что же Израиль? Каковы же еврейские судьбы на землях растерзанной Речи Посполитой? Евреи – как бы чужаки, но в то же время и неотъемлемые сопричастники этого уходящего в прошлое патриархальнобылинного мipa.
Корчма, арендуемая у панов Соплиц преданным им трактирщиком и музыкантом Янкелем, – как бы вестник о Ноевом ковчеге или о Соломоновом храме среди Беловежья (книга 4 – «Дипломатия и охота», строки 177–186); Большая Медведица над Беловежьем – как бы «колесница Давидова» (там же, строки 77–78), а созвездье Дракона – как бы подвешенный в небе Левиафан (книга 8 – «Наезд», строки 89–92), о чем «старые литвины» прознали у раввинов (там же, строки 87–88).
И – увы – в поэме мы встречаем и такой отзвук «нормального» архаического мышления о евреях, как кровавый навет: всего лишь неполные три строчки.
Мелкая «шляхтюра», возбужденная молодым графом Горешкой и его верным слугой – подпанком Гервазием Рембайлой (одна фамилия старого рубаки – rębaczu – чего стóит!) – против Соплиц, бесчинствует в захваченном доме Судьи. Бесчинствует и сам граф. И тогда –
…wszystkich zagłuszył wrzask Zosi,
Która krzyczała, Siędzię objąwszy rękemi,
Jak dziecko od Żydów kłute igełkami.
(«…Всё перекрыл визг Зоей, // обхватившей Судью руками, // словно дитя, которого евреи колют иголками». – Там же, строки 668–670).
К чести Мицкевича, следует сказать, что и здесь сохранена поэтом та ироническая дистанция, которая характеризует весь его поэтический дискурс при описаниях старой, шляхетской, былинной, «сарматской» Польши…
4И за всем этим любованием-развенчанием архаической старины – во всём его амбивалентном блеске и драматизме – открывается другой, новый мiр: мiр собственно истории. Истории динамичной, пламенеющей, если можно так выразиться – огнестрельной[113].
Остановимся на активных и разнохарактерных героях этой Собственно-Истории, т. е. истории осознанной.
Сам заглавный герой поэмы – юный пан Тадеуш Соплица – борец за свободу Польши и освободитель (вместе с невестою Зосей) своих крестьян.
Император Наполеон – он как бы «за кадром», но именно с ним и с его воинством наивно связывают тогдашние поляки надежды на восстановление своего отечества.
Как известно, и сам Мицкевич заплатил немалую дань романтической наполеоновской мифологии. И всё же, текст поэмы свидетельствует, что «наполеонизм» Мицкевича далеко не безоговорочен.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Философия поэзии, поэзия философии"
Книги похожие на "Философия поэзии, поэзия философии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Рашковский - Философия поэзии, поэзия философии"
Отзывы читателей о книге "Философия поэзии, поэзия философии", комментарии и мнения людей о произведении.