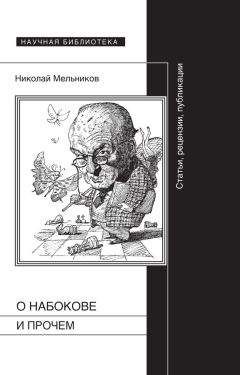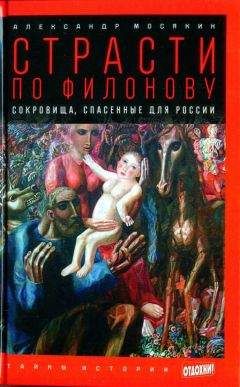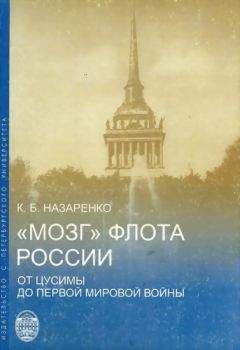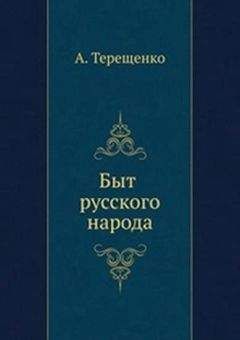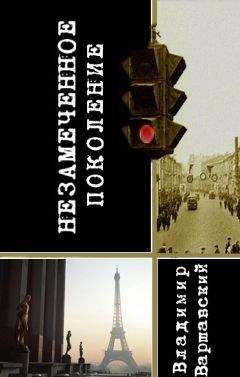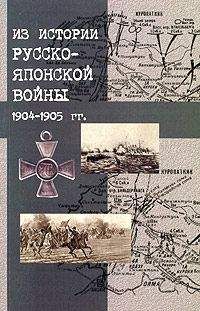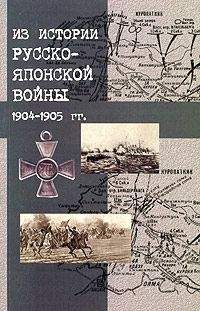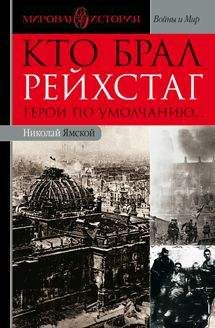Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русское молчание: изба и камень"
Описание и краткое содержание "Русское молчание: изба и камень" читать бесплатно онлайн.
В книгу известного петербургского писателя, философа, историка П. В. Кузнецова включены историко-философские новеллы, рассказы, эссе, посвященные крупнейшим писателям, философам, мыслителям России, русского зарубежья и Запада – П. Чаадаеву, Л. Шестову, Н. Бердяеву, В. Набокову, Д. Святополку-Мирскому, Борхесу, Хайдеггеру, Сартру, Симоне де Бовуар, Юлиусу Эволе, Жаку Деррида, Жану Бодрийару, Петеру Слотердайку, представителям евразийского движения и др. Особое внимание уделено осмыслению исторической и метафизической судьбы Санкт-Петербурга, противостоящей традиционной «деревянной» России.
Павел Кузнецов
Русское молчание: изба и камень
Прочтя книгу, где с такой пронзительной живостью даны портреты Артура Шопенгауэра, Антонена Арто, Генри Торо, Жозефа де Местра, Шарля Бодлера, Генри Торо, Борхеса и Набокова, Леона Блуа, Юлиуса Эволы, Рене Домаля и многих русских мыслителей невольно приходишь к выводу: всё настоящее в мировой философии предельно смертно и беззащитно. Общество потребления и спектакля уже давно объявило войну мысли. Для толпы мыслящие «безумцы» опасны и непонятны. Но Божьей волей, именно они создают сакральную историю человечества. Вершины всегда одиноки. И «кратчайший путь между вершинами – прямая» (Ницше).
Татьяна ГоричеваИзба и камень
(вместо предисловия)
Разверзлась Бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, Бездне – дна.
Пугачев…. на Волге встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам…
Александр Пушкин. «История Пугачева»События, произошедшие поздней осенью 1922 года в Петрограде у бывшего Николаевского моста на Васильевском острове, многократно описаны и хорошо известны. По этому поводу было пролито немало фальшивых слез.
В первых числах октября (2-го) в Германию отправился немецкий пароход «Обер-бургомистр Хакен», а 16 ноября вслед за ним последовал другой – «Пруссия». Если на первом в вынужденное изгнание отправились представители московского интеллектуального сообщества, то на втором места были отведены по преимуществу петербуржцам. Два «философских парохода» навсегда увезли из России по различным версиям от 250 до 300 человек – философов, историков, литераторов, экономистов, юристов, естествоиспытателей и т. д. Это беспрецедентное в мировой истории событие стало завершающим аккордом интеллектуальной истории петровской России.
Зимой 1990 года в кафе у Люксембургского сада я слушал двухчасовой рассказ, возможно, последнего очевидца этого исхода – французского искусствоведа, бывшего хранителя музея Фонтенбло Б.Л. Он покинул Петроград вместе со своим отцом, философом, в 85 лет обладал вполне ясным умом и живой памятью, чтобы воскресить подчас мельчайшие подробности, многие из которых не попали в его мемуарный очерк «К изгнанию людей мысли» (Впрочем, позднее, он описал это более подробно в своих мемуарах). Б. Л. рассказывал о голоде 1921 года, о праздновании Пасхи 1 мая, когда на Крестный ход у Казанского собралось почти пятьдесят тысяч человек, а навстречу им из костела Св. Екатерины вышли католики, чтобы приветствовать православных, об изъятии церковных ценностей и летних расстрелах, о суде над митрополитом Вениамином, о блестящих лекциях Льва Карсавина – последнего свободно избранного ректора Петроградского университета, о фантастических слухах и страхах – возможности высылки интеллигенции не в Германию, а в прямо противоположном направлении. Бюрократические препоны на вывоз имущества, книг, драгоценностей, валюты были чудовищны. Но москвичам, обитавшим в новой столице, удалось быстрее пройти все кафкианские процедуры и отправиться в эмиграцию на полтора месяца раньше.
Перед отправкой первого парохода в ночь на 2 октября 1922 года в квартире его отца Н. Л. ночевала семья Бердяевых, и вечером (за неким подобием ужина) между двумя мыслителями возник диалог, который Б. Л. запомнил в самых общих чертах. Бердяев со всей своей страстностью обрушился на петербургский бюрократический период российской истории, в котором он видел источник всех возможных зол, в том числе и многих кошмаров большевистской революции. Несравнимо более сдержанный Н. Л. соглашался со своим коллегой, но при этом замечал, что революция во всем ее скифско-большевистском варварстве есть не что иное, как восстание старой допетровской «бунташной Руси» против России современной, отчасти европеизированной, буржуазной, во многом соединившей себя с Западной Европой. Разговор между столь разными людьми был довольно сумбурен, они меняли позиции, как это часто бывает, противоречили сами себе. Однако общий смысл вырисовывался достаточно очевидно: если Февральская революция была (точнее, должна была стать) революцией вестернизаторской, то Октябрьская стала ее абсолютной противоположностью. Она явилась бунтом полуязыческой-полухристианской стихии, добившей как 300-летнию империю Романовых, так и либерально-западнические иллюзии Февраля.
Давняя мечта славянофилов о переносе столицы из Питера в Москву, наконец, осуществилась. О квазиславянофильском характере русской смуты, на десятилетия оторвавшей Россию от остального мира, вскоре начнут говорить наиболее проницательные писатели и на Западе – например, Томас Манн. Да и эмигранты, правда, значительно позднее, будут писать об этой парадоксальной иронии истории. Но тогда, в 1917–1918 гг., космополитическая мегаломания Ленина и Троцкого, на первый взгляд, никоим образом не спрягалась с любыми формами «славянофильства» или «почвенничества».
Первыми, кто почувствовал «раскольничий дух» революции, были крестьянские писатели (от Клюева и Есенина до Пимена Карпова и Сергея Клычкова), которые все без исключения приняли смуту как свою родную стихию.
В 1918 году великий певец исконной старообрядческой Руси Николай Клюев пишет замечательный цикл «Ленин».[1]
Есть в Ленине керженский дух
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
он ищет в поморских заветах,
Мужицкая ныне земля,
И церковь – не наймит казенный…
……………………….
Есть в Смольном потемки трущоб,
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.
Существовала давняя, прежде всего, народническая традиция трактовки старообрядцев и сектантов как потенциальных революционеров в борьбе с Империей. Но в 1918 году, пожалуй, только Клюев с его звериным олонецким чутьем мог почувствовать в захваченном большевиками интернациональном Смольном не только дух Раскола, но и «нищий колодовый гроб с останками Руси великой». Впрочем, нечто схожее в облике вождя революции подметили и некоторые интеллектуалы:
«Забравшись на подмостки, он театральным жестом сбросил с себя плащ и стал говорить. Лицо этого человека содержало в себе нечто, что очень напоминало религиозный фанатизм староверов».[2]
Или: «Он был… глубочайшим выразителем русской стихии в ее основных чертах. Он был, несомненно, русским с головы до ног… А стиль его речей, статей, “словечек”? “Тут русский дух, тут Русью пахнет”. В нем, конечно, и Разин, и Болотников, и сам великий Петр…»[3]
В стихах, письмах и поздней прозе Клюева возникает достаточно целостная концепция неизбежного крушения «растленной имперской России».[4] Клюев появился в петербургских салонах в начале XX века, имел несомненный успех, но позднее в автобиографической «Гагарьей судьбине» этот период описан как самый ложный и опасный в его жизни:
«Литературные собрания, вечера, пирушки, палаты московской знати две зимы подряд мололи меня пестрыми жерновами моды, любопытства и сытой скуки. Брюсов, Бунин, Вересаев, марксисты и христиане, «Золотое Руно» и суриковский кружок мои знакомцы того нехорошего бестолкового времени… Писатели мне казались суетными маленькими людьми, облепленными, как старая лодка, моллюсками тщеславия, нетерпимости и порока.
Артисты были еще хуже, – но больше всего ужасался я женщин; они мне всегда напоминали кондоров на пустынной падали, с тошным запахом духов, с голыми шеями и руками, с бездушным, лживым голосом».[5]
К текстам Клюева можно добавить и характерный пассаж его собрата и единомышленника Сергея Есенина, еще в 1916 году выступавшего перед венценосной семьей в Царском Селе: «Россия… Царщина…/ Тоска/ И снисходительность дворянства/ Ну что ж! Так принимай Москва/ Отчаянное хулиганство./ Посмотрим кто кого возьмет! / И вот в стихах моих / Забила/ В салонный вылощенный сброд/Мочой рязанская кобыла».
Революционная смута, вспыхнувшая в столицах, быстро перешла в свою противоположность: она привела к крушению городов и разрушению городской культуры. Достаточно вспомнить улицы обезлюдевшего Петербурга, зарастающие травой, которой так опрометчиво восхитился Осип Мандельштам. Стократно описанные ужасы урбанистического выживания (ярчайший пример – «Пещера» и «Мамай» Замятина) заставляли не только «салонный сброд», но и мирных обывателей бежать либо за границу, либо в села и маленькие города, где жизнь была неизмеримо благополучней. Это время победы «Избы» и «Матери-сырой земли» над «Камнем» и «Железом» (их противопоставление – один из главных мотивов поэзии Клюева), святой крестьянской Руси – над молохом Империи.
Не вдаваясь в анализ этих начал, чье «противостояние» сыграло такую роль в русской истории, лишь замечу, что изначально смута возникла как раз вопреки тому, как это виделось почитаемому Клюевым горожанину Александру Блоку. Именно «святая Русь», «кондовая» и «избяная» пальнула в Россию городскую, каменную и европеизированную. Размашистая характеристика Шпенглера: Россия – это апокалиптический бунт против формы и культуры, – при всей своей односторонности в первом приближении достаточно точна. Именно в этом глубинный, а не эмпирический, сакральный, если угодно, герметический смысл русской революции. Это взрыв, выплеск подавляемого несколько столетий религиозного бессознательного, которое на поверхности может воплощаться подчас в совершенно фантастических, далеких от своей внутренней сущности формах. В развернутом виде эти же темы выражены и у такого вполне городского писателя как Борис Пильняк в романе «Голый год», о котором в свое время точно написал большевистский критик А. Воронский: «Мужики в освещении Пильняка за революцию потому, что она освободила их от городов, буржуев, чугунки; что вернула она Русь старую, допетровскую, настоящую, мужицкую, былинную, сказочную».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русское молчание: изба и камень"
Книги похожие на "Русское молчание: изба и камень" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень"
Отзывы читателей о книге "Русское молчание: изба и камень", комментарии и мнения людей о произведении.