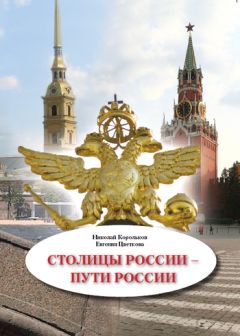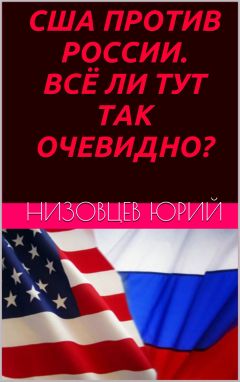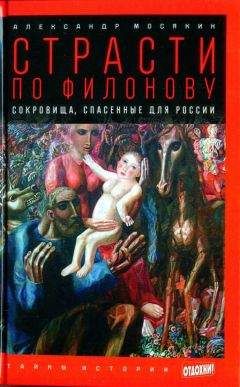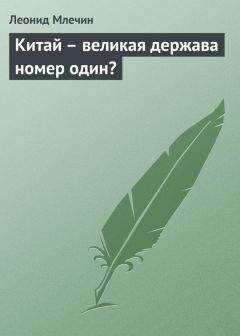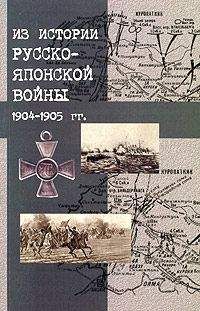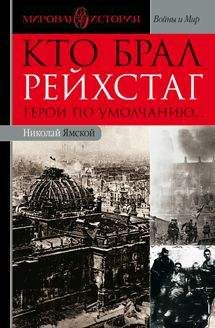Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русское молчание: изба и камень"
Описание и краткое содержание "Русское молчание: изба и камень" читать бесплатно онлайн.
В книгу известного петербургского писателя, философа, историка П. В. Кузнецова включены историко-философские новеллы, рассказы, эссе, посвященные крупнейшим писателям, философам, мыслителям России, русского зарубежья и Запада – П. Чаадаеву, Л. Шестову, Н. Бердяеву, В. Набокову, Д. Святополку-Мирскому, Борхесу, Хайдеггеру, Сартру, Симоне де Бовуар, Юлиусу Эволе, Жаку Деррида, Жану Бодрийару, Петеру Слотердайку, представителям евразийского движения и др. Особое внимание уделено осмыслению исторической и метафизической судьбы Санкт-Петербурга, противостоящей традиционной «деревянной» России.
Понятно, что «святая Русь» амбивалентна; она святая, но она же и окаянная, двоящаяся, мутная, темная, страшная; как постоянно двоится облик и самого Клюева с его скоморошеством, лукавством, самоуничижением и самовозвеличиванием одновременно, с его подчас кощунственными стихами о Христе и Богородице и прямо-таки онтологической ненавистью к городской, «буржуазной», «развращенной» жизни,[6] без которой он, тем не менее, никогда бы не состоялся как поэт…
Итак, в этом невероятном алхимическом котле, породившем величайшую катастрофу в русской истории, смешались самые различные стихии: и неистребимое славянское язычество, и аввакумовский сектантский радикализм, и народно-православное чаяние «Града Небесного», и интеллигентский религиозно-философский утопизм, и городское анархическое будетлянство и «скифство». При всей своей несовместимости их объединяло одно: все они были скрыто или явно антизападническими, это был бунт против навязанных извне культурных форм. Сегодня об этом почему-то забылось, но послевоенный Советский Союз – это в своих основах крестьянская цивилизация, крестьянская страна. После изгнания и уничтожения интеллигенции антибольшевистской, «попутчиков», интеллигенции большевистской, послевоенных гонений, после того как крестьянство, начиная с коллективизации, хлынуло в города, мы получили структуру власти и культуру, которые на 9 /10 существовали благодаря выходцам из крестьян, достаточно посмотреть на корни руководителей всех рангов и вспомнить их непередаваемый говорок. Отсюда и высшее культурное достижение советской цивилизации в литературе – замечательная деревенская проза. Поэтому крушение 1991 года – это именно конец изолированной от внешнего мира, исчерпавшей себя «крестьянской цивилизации», существовавшей в квазикоммунистическом обличье.
Таким образом, высылка 1922 года не только не историческая случайность, злонамеренный произвол «красных негодяев» Ленина и Троцкого, а совершенно закономерный итог петровского периода русской истории, когда православная апофатическая культура, обернувшаяся чудовищным разгулом русского нигилизма, возвращает Европе ее бесценный дар – интеллектуалов-западников, ученых, писателей, буржуазных профессоров, русских европейцев, но, прежде всего, «вероотступников» и «еретиков». Отсюда становятся понятными и странности в отборе высылаемых: большевики отправляли на Запад не только своих явных врагов – философов, историков, экономистов, юристов, чьи взгляды по сборникам «Вехи», «Из глубины», «Освальд Шпенглер и “Закат Европы”» были хорошо известны, но и тех, без кого любая власть не сможет обойтись – профессоров-естественников, математиков, инженеров, биологов, даже почвоведов и агрономов…
Б. Л. рассказывал о проводах отъезжающих, о друзьях и родственниках, толпившихся на набережной, когда мало кто осознавал смысл происходящего – что это, спасение или катастрофа? Что будет дальше? Увидятся ли они когда-нибудь?… Он вспоминал об удивительно прекрасной погоде, стоявшей в середине ноября, – солнце, лазурное небо, штиль на заливе, – о том, как пароход медленно отполз от молчаливой растерянной толпы на набережной и поплыл мимо опустевших особняков с разбитыми окнами, ржавеющих, брошенных, умирающих кораблей, мертвых заводов, разгромленного обезлюдевшего Кронштадта, пока несчастный Петербург-Петроград окончательно не скрылся за горизонтом…
Часть I
Метафизический нарцисс и русское молчание (П. Я. Чаадаев и невозможность философии в России)
Мы не должны, не смеем замазывать противоречие тестом своих философем! Пусть противоречие остается глубоким, как есть. Если мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать их.
о. Павел ФлоренскийКниги по истории русской мысли, богословию или философии часто начинаются со справедливого недоумения: «Что означает это вековое, слишком долгое и затяжное русское молчание?.. С изумлением переходит историк из возбужденной и часто многоглаголивой Византии на Русь тихую и молчаливую. И недоумевает, что это? Молчит ли она и безмолвствует в некоем раздумье, в потаенном богомыслии или в косности и лени духовной, в мечтаниях и полусне?»[7]
Из этого недоумения, перешедшего почти в отчаяние, собственно и родились «Философические письма» Чаадаева, где все вопросы впервые были поставлены резко и откровенно: «Где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто за нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?»[8] Но сегодня речь идет уже не о «мудрецах и мыслителях» – за 150 лет их появилось предостаточно, – а о каком-то глубинном, онтологическом недоверии к метафизическому самопознанию, проявляющемуся на самых разных уровнях и в различных формах, – о тайне «русского молчания» (или «русского умолчания», как говорил Хомяков). И вопрос звучит иначе: почему при всей страстной любви к философствованию собственно философия и рефлективное мышление так и не стали плотью и кровью культуры, подлинным самосознанием?..[9]В свое время много было написано о равнодушии русских к «философской истине», «недоверии к идеям» (Н. Бердяев), о «русском ужасе перед всякой умственной независимостью» (К. Леонтьев) и даже об «одичании умственной совести» (о. Г. Флоровский) в определенные периоды русской истории, но самое главное по-прежнему остается неясным… Тем более, что после недолгого расцвета в конце XIX-начале XX века русская философия канула в небытие, как-будто ее не существовало – кажется, что она никого ничему не научила: ни общество, ни государство, ни церковь. Поэтому сегодня можно согласиться с утверждением, что в «интеллектуальной истории России мы имеем крайне редкий пример гибели философии». Эта «смертность, хрупкость, возможно, главная особенность русского мышления».[10]
Забегая вперед, нужно сразу же сказать, что все это связано с определенным преломлением на отечественной почве апофатической традиции греческой патристики, которая, будучи основой православного миросозерцания, была итогом тысячелетнего развития восточного христианства. В Древнюю Русь эта традиция пришла именно как итог, завершающее последнее слово и вошла в плоть и кровь русской жизни. В результате Россия стала страной «молчания и молитвы», где святость как отнологическая реальность являлась единственным критерием истины. Все это в целом породило неизбежное недоверие не только к богословскому и философскому мышлению, «еллинскому блядословию», как говорили на Святой Руси, – но и к культурному творчеству вообще, которое становится подозрительной роскошью в «царстве недумания», в противоположность богатству христианской мысли в Византии, «крестной матери» славян.
Чаадаев, при всем его интересе к богословию, патристики вообще не знал (слова о «жалкой Византии» остаются на его совести), как и у большинства русских мыслителей, у него не было учителей, ему приходилось «шарить в потемках», и своих наставников он мог найти только в западно-католической мысли. Чаадаев редкий пример философа par exellance, философа старого европейского типа, всецело поглощенного религиозно-философским творчеством, человека, волею судеб оказавшегося в «царстве русского молчания». На примере его драмы и несостоявшейся миссии можно проследить многократно повторявшееся столкновение между западной философией и русским «апофатическим сознанием». При этом Чаадаев совсем не является положительным героем, «рыцарем свободной мысли», каким его часто хотели представить. Он – более сложная фигура, как и сложна была та духовная реальность, с которой он вступил в неизбежный конфликт.
Метафизический нарцисс
… Находят, что я притворяюсь – как не притворяться, когда живешь с бандитами и дураками. Во мне находят тщеславие – это гримаса горя.
Я. Я. ЧаадаевИз смертных грехов Петр Яковлевич Чаадаев сполна обладал одним – невероятной, всем бросавшейся в глаза гордыней. Одинокий, холодный, независимый ум, чувство избранничества, презрение и ощущение неизбежного превосходства над окружающим миром – вот качества, присущие его загадочной личности.
В свое время Мандельштам и Розанов вывели из этих качеств все мировоззрение и философию Чаадаева. Первый – с восхищением и пиететом, второй, напротив, – с откровенной неприязнью.
«Современники изумлялись гордости Чаадаева, и сам он верил в свое избранничество. На нем почила гиератическая торжественность, и даже дети чувствовали значительность его присутствия, хотя он ни в чем не отступал от общепринятого…», – говоря о «басманном философе», Мандельштам даже впадает в довольно необычный для него величаво-патетический тон: «Все те свойства, которых лишена была русская жизнь, как нарочно соединялись в личности Чаадаева: огромная внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод маски… которым окружает себя человек, сознавая, что в веках он – только форма, и заранее подготовляя слепок для своего бессмертия».[11]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русское молчание: изба и камень"
Книги похожие на "Русское молчание: изба и камень" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень"
Отзывы читателей о книге "Русское молчание: изба и камень", комментарии и мнения людей о произведении.