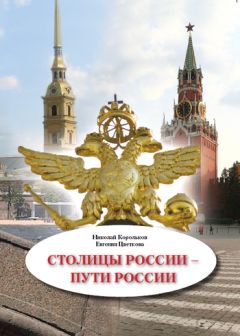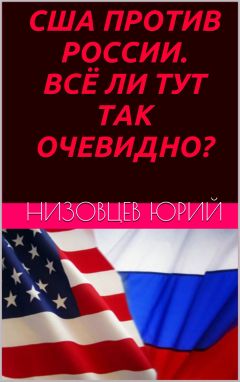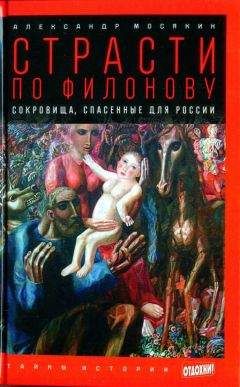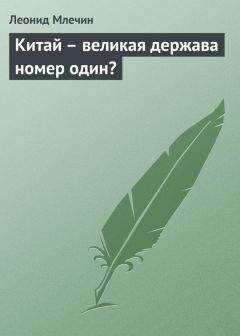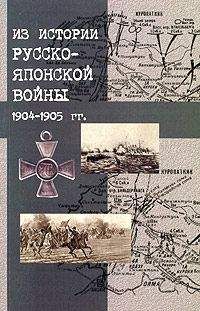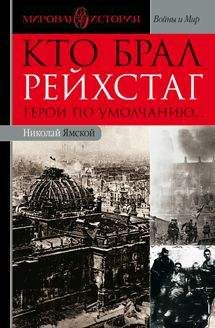Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русское молчание: изба и камень"
Описание и краткое содержание "Русское молчание: изба и камень" читать бесплатно онлайн.
В книгу известного петербургского писателя, философа, историка П. В. Кузнецова включены историко-философские новеллы, рассказы, эссе, посвященные крупнейшим писателям, философам, мыслителям России, русского зарубежья и Запада – П. Чаадаеву, Л. Шестову, Н. Бердяеву, В. Набокову, Д. Святополку-Мирскому, Борхесу, Хайдеггеру, Сартру, Симоне де Бовуар, Юлиусу Эволе, Жаку Деррида, Жану Бодрийару, Петеру Слотердайку, представителям евразийского движения и др. Особое внимание уделено осмыслению исторической и метафизической судьбы Санкт-Петербурга, противостоящей традиционной «деревянной» России.
Любопытно, что автор послесловия к «Апокалипсису…» С. Федякин пытается сгладить очевидный богоборческий пафос Розанова, приводя известный отзыв о нем о. Павла Флоренского, что если бы Розанова пригрел какой-либо монастырь и позволил бы вести нормальное существование, то Василий Васильевич «с детской наивностью стал бы восхвалять не этот монастырь, а, по свойственной ему необузданности обобщений… – все монастыри вообще, их доброту, их человечность, христианский аскетизм и т. д. И воистину, он воспел бы христианству гимн, какого неслыхивали по проникновенности лирики».
Возможно, это и так. Но мне кажется, что такое объяснение унижает мыслителя. Конечно, в этом случае его пафос наверняка бы смягчился, а проживи он чуть больше и стань свидетелем полного уничтожения большевиками православной Церкви, он во многом бы поменял свои взгляды. Но об этом можно только гадать. В любом случае, «Апокалипсис…» никак нельзя рассматривать как случайность: здесь сошлись в один пучок все глубинные розановские темы и бомбой разорвались в его предсмертных текстах.
Когда-то в советские времена Алексей Лосев в послесловии к книге А. Хюбшера «Мыслители нашего времени» написал о Розанове так: «Василий Розанов был черносотенный политикан, верующий во все религии и, собственно говоря, ни в одну из них, мистик и атеист одновременно, неимоверный циник и часто порнограф: этот человек превратил все великие культуры прошлого в ряд своих изысканнейших и острейших ощущений… Это – и декадент, считавшийся христианином, но выставивший против христианства… глубокие и серьезные аргументы… А главное, мировая литература… не исключая даже Ницше, не исключая даже Достоевского, еще никогда не рисовала и личного, и общественного бытия в таком анархическом самоотрицании… Читая ужасные страницы этого писателя, нельзя было не чувствовать того, как рассыпается в прах европейская культура, созданная усилиями стольких времен и народов…».
Эти замечания выглядят слишком жесткими и не проникают в глубину розановской драмы. Но в одном Лосев прав: книги такого метафизического отчаяния и апофеоза нигилизма еще не было в русской литературе, по сравнению с ней многие современные «кощунства» и «богохульства» кажутся «цветочками».
Евразийская мистерия. Восток как феномен русской культуры XIX – начало XX вв.
Раздумывая над пленением русской мысли, вечной данницы той или другой орды, он увлекался диковинными сопоставлениями.
Владимир Набоков, «Дар»Как существуют «роковые события», так существуют и «роковые темы». Европа – роковой континент для России, Европа – роковая тема отечественной историософии: трудно отыскать русского мыслителя, у которого отсутствовало бы сочинение на эту сакраментальную тему. «Россия и Европа» – словосочетание из двенадцати букв, скрепленное союзом «и», за более чем двести лет своего литературно-философского существования превратилось в нечто особое, самостоятельное, в метафизическую дихотомию, подобную «свободе и необходимости», «причине и следствию», заняв почетное место в пантеоне парных философских категорий.[90] Но сегодня, похоже, «роковая тема» во многом исчерпала себя – открывая очередной текст, уже заранее знаешь, что там прочтешь. Все аргументы «славянофилов» против «западников», «космополитов» против «почвенников», «правых» против «левых», «центристов» против тех или иных «радикалов» известны наперед. Завершение, исчерпанность, тупик. Нечто подобное Бодрийар назвал «смертью идей». Скажем, «идея прогресса» умерла, но сам «прогресс» продолжается, умерла «идея политики», но политический балаган по-прежнему шумит; Россия и Европа живы, их нескончаемая «тяжба» продолжается и будет продолжаться, но теоретически здесь больше нечего сказать, сама идея, исчерпав себя, медленно угасает. По крайней мере, сегодня складывается странная ситуация – Европу и Запад в целом по многолетней инерции по-прежнему принимают за точку отсчета, с которой принято соотносить остальной мир. Более того, когда сотни тысяч и даже миллионы реальных и потенциальных переселенцев с Юга, Севера, Востока, влекомые предзакатным блеском европейской цивилизации, штурмуют консульства и границы западно-европейского континента, интеллектуальная элита этих стран ищет духовные источники за пределами своего отечества, как раз в тех краях, которые от ужаса или бедности покидают местные аборигены. Следует сказать даже более определенно: чем значительнее европеец попадается нам на пути, тем вероятней его разочарование в ценностях «открытого общества» и «колыбели демократии», тем вероятнее, что энергетические импульсы для жизни и творчества он ищет в тысячах километрах от матери-Европы – в Китае, Индонезии, Тибете, Индии или России, в индуизме, даосизме, суфизме, буддизме или в православии. И при всех спорах и разночтениях одно становится все очевидней: на рубеже третьего тысячелетия христианской истории «осевое время» вновь смещается – его вектор медленно но верно меняет направление, поворачиваясь с Запада на Восток.
Парадокс русской интеллектуальной истории состоит в том, что, хотя Азия была рядом и являлась частью Империи, тема «Россия и Восток» русскую мысль мало интересовала и трактаты об этом не писались. Более того, образованная Россия всегда скрыто или откровенно стыдилась Азии, как стесняются перед авторитетными и просвещенными гостями бедного, некультурного и непредсказуемого родственника, когда он некстати появляется в гостиной и может нарушить правила хорошего тона и учинить скандал. В обыденной речи слово «азиатчина» было и до сих пор остается бранным, тогда как аналогичное – «европейничанье» – при всех стараниях почвенников и славянофилов в таком качестве не привилось. Отсюда постоянное самополагание и самоопределение исключительно по отношению к западной Европе (что характерно не только для западников, но и для славянофилов). Евразийцы в 1920-30-е годы много писали об этом странном ослеплении отечественной мысли, о ее фатальной привязанности к западному полюсу мировой истории. Но делая попытку совершить «коперникианский переворот», изменить оси и векторы российской и всемирной истории, участники евразийского движения были слишком пристрастны в своем полемическом запале, часто «перегибая палку», а их сознание – чрезмерно идеологизировано: стремясь освободиться из плена либерального европоцентризма, они оказывались в плену собственных идеократических конструкций.
Развитие любой культуры начинается с подражания и усвоения чужого, что нередко оборачивается духовным пленением. Тема пленения и противостояния ему очень существенна для отечественной культуры; во многом история русского самосознания – это история периодического пленения и редких моментов освобождения – обретения внутренней свободы… Порабощение Иным, будучи изначально разрушительным, в конечном счете может стать плодотворным, хотя часто случалось и наоборот. П,ель данной работы – проследить этот и некоторые другие сюжеты на материале «евразийских метаморфоз» русской мысли на протяжении более чем столетия.[91]
Наказ «быть европейцами» и «враг с Востока»
Россия есть страна европейская…
Из «Наказа…» Екатерины IIЕсли для народного сознания Азия – это всегда угроза, насилие, кочевники, то для интеллигентского – это пассивность, непросвещенность, покорность, рабство и, наконец, в метафизическом смысле – небытие, нирвана, смерть… В пушкинскую эпоху для русской аристократии, полностью ориентированной на Западную Евpony, Азия была еще неким единым целым, противостоящим как России, так и Западу – естественно, прилагательное «азиатский» имело однозначно негативный оттенок. В работе «Пушкин об отношениях между Россией и Европой» С. Л. Франк так характеризует восприятие поэтом Востока: «Уже в самых ранних его письмах у него есть излюбленное противопоставление (в отношении явлений русской жизни) «азиатского» начала – «европейскому», как низшего высшему. Переселившись из Кишинева в Одессу, он пишет Александру Тургеневу: “Надобно, подобно мне, провести три года в душном азиатском заточении, чтобы почувствовать цену и невольного европейского воздуха” (1823). Шутя он называет Россию “родной Турцией” и Петербург “северным Стамбулом”. Когда находится щедрый издатель для его “Евгения Онегина”, он пишет: “Какова Русь, да она в самом деле в Европе – а я думал, что это ошибка географов”. Восхваляя статьи князя Вяземского, он называет их “европейскими”; находя пестроту внешнего украшения книги “безобразной”, он прибавляет, что она “напоминает Азию”».[92]
В дальнейшем это восприятие становится более дифференцированным: для описания «азиатских настроений» широкое распространение получает выражение «буддизм» («буддийский») в качестве своеобразной отрицательной метафоры. У молодого Герцена есть работа «Буддизм в науке», где соответствующая метафора, возможно впервые, применяется на практике и вводится в интеллектуальный оборот. Под «буддизмом» здесь понимается основанное на гегелевской метафизике всеобщего знаменитое «примирение с действительностью». «Русский буддист», по Герцену, – это человек, поднявшийся по ступенькам гегелевской логики на вершину «абсолютного духа», своеобразный «метафизический Обломов», утративший волевое, пассионарное начало, способность к выбору, и принимающий мир таким, какой он есть: «Буддисты науки, так или сяк поднявшись в сферу всеобщего, из нее не выходят. Их калачом не заманишь в мир действительности и жизни…» Но русского интеллигента, всегда находящегося в оппозиции к существующему status quo, именно это и возмущает более всего – ему «мало примирения; ему мало блаженства спокойного созерцания и видения, ему хочется полноты упоения и страданий жизни, ему хочется действования, ибо одно действование может вполне удовлетворить человека».[93]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русское молчание: изба и камень"
Книги похожие на "Русское молчание: изба и камень" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень"
Отзывы читателей о книге "Русское молчание: изба и камень", комментарии и мнения людей о произведении.