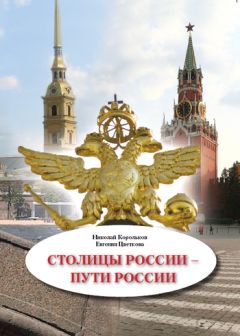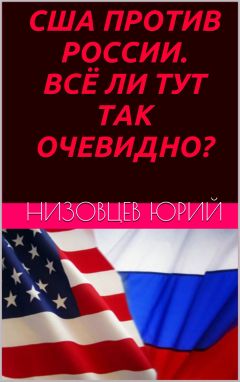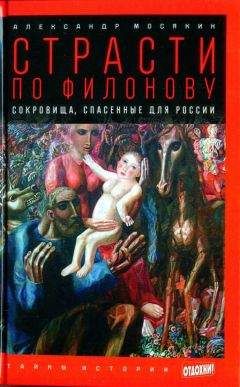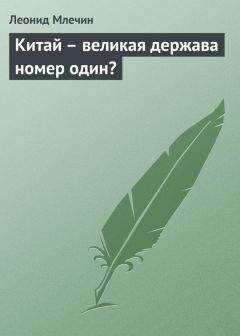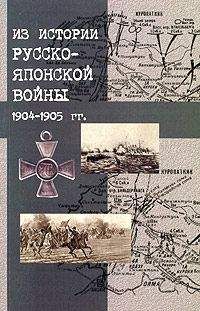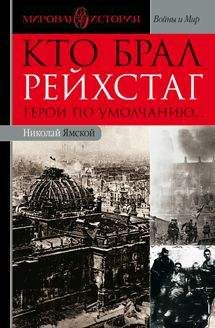Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русское молчание: изба и камень"
Описание и краткое содержание "Русское молчание: изба и камень" читать бесплатно онлайн.
В книгу известного петербургского писателя, философа, историка П. В. Кузнецова включены историко-философские новеллы, рассказы, эссе, посвященные крупнейшим писателям, философам, мыслителям России, русского зарубежья и Запада – П. Чаадаеву, Л. Шестову, Н. Бердяеву, В. Набокову, Д. Святополку-Мирскому, Борхесу, Хайдеггеру, Сартру, Симоне де Бовуар, Юлиусу Эволе, Жаку Деррида, Жану Бодрийару, Петеру Слотердайку, представителям евразийского движения и др. Особое внимание уделено осмыслению исторической и метафизической судьбы Санкт-Петербурга, противостоящей традиционной «деревянной» России.
Но, согласно Шестову, это право на обладание истиной является совершенно мнимым, и борьбе со всеми, «обладающими истиной», он, собственно, и посвятил все свое творчество. Он убежден, что только опыт переживания смерти или какой-либо аналогичный опыт трагического переживания «открывает человеку глаза на суетность всяких земных привилегий, не исключая и моральных. Тебе это кажется “тьмой”, но мне кажется наоборот ужасом та “правота”, которой люди поклоняются, как поклонялись идолам. Ведь идола можно сделать не только из дерева, но и из идеи. “Единство” истины – один из таких идолов».[87]Именно в личной переписке противоположность позиций друзей-оппонентов проявляется в полной мере. Если Бердяев абсолютный персоналист, близкий к религиозному экзистенциализму, его философия предельно антропоцентрична, то поздний Шестов все более и более теоцентричен (впервые это подметил известный историк русской философии отец В. Зеньковский). Бердяев стремится сблизить Бога и человека, тогда как для Шестова в духе ветхозаветных пророков между человеком и Богом все больше и больше разверзается бездна.
Таким образом, говорить о принадлежности Бердяева и Шестова к экзистенциальной философии невозможно. К концу жизни их мировоззрения все больше расходятся, хотя при этом они сохраняют теплые личные отношения. Различной оказывается и судьба их наследия во Франции, ставшей для обоих второй родиной, как, впрочем, и на Западе в целом.[88] При жизни Бердяев имел значительно большую известность в мире, чем Шестов, и после Второй мировой войны был даже номинирован на Нобелевскую премию. Однако это была известность, скорее, не столько философа, метафизика, сколько специалиста и исследователя «русской души», «русского коммунизма», православия и марксизма. Как свободный христианский мыслитель он плохо воспринимался и постепенно на Западе оказался практически забыт. Тогда как известность Шестова именно благодаря его «беспочвенности», его критике рационализма, непринадлежности ни к одной из конфессий постепенно росла и достигла своего пика в 1966 году в столетие со дня его рождения, когда многие его работы были переизданы и переведены на европейские языки.
Русский Феникс, или что такое философия в России
Странным образом, все кафедры в наших университетах – мертвы.
В. Розанов. 1916 г.В свое время Лев Карсавин, с его склонностью к парадоксам, в одном из своих текстов («Философия и ВКП(б)») утверждал, что высылка философов из России и полное удушение свободы мысли, безусловно, вещь ужасная, но в далеком будущем может привести и к положительным результатам. Любая традиция амбивалентна: давая ориентацию стимулировать творчество, она, одновременно, сковывает его, лишает внутренней свободы и заставляет двигаться в заданном направлении, повторять ошибки и заблуждения предшествующих эпох. Уничтожение всех интеллектуальных традиций в советской России можно рассматривать как очищение метафизического тела нации, которое после падения большевизма может привести не только к возрождению мысли, но и к подлинному расцвету оригинального философского творчества…
Много лет как на дворе свобода, все пишут, что хотят, поток философской литературы возрастает, но пока по всем признакам следует сказать, что предположения Карсавина не оправдываются. Разумеется, для философии это совсем небольшой срок, но существенно, что общее отношение к философии в обществе не меняется.
При всей очевидной философичности русской души, в стране, где каждый третий более или менее образованный человек сам себе мыслитель, именно к метафизике как автономной сфере интеллектуальной деятельности существует по-прежнему устойчивое недоверие и достаточно ироническое отношение. Разумеется, следует отличать философию как свободное искание истины, которая, подобно духу, дышит, где хочет и как хочет, и философию как профессию – именно ее, по большому счету, у нас мало кто воспринимает всерьез. «В России сегодня много философов, но философии нет», – это странное суждение часто можно услышать и от самих адептов любви к мудрости. Что это значит? Почему?… Если в восточной Европе после «бархатных революций» все идеологические кафедры были разогнаны, то в посткоммунистической России бойцы идеологического фронта, по преимуществу, остались на своих местах. «Истматчики» и «диаматчики», критики вредоносного антикоммунизма, борцы с идеологическими диверсиями продолжают учить общество философии, устраивают свои конференции и философские конгрессы, образуя затхлое пространство, в котором быстро гибнет все стоящее и пропадают немногие живые голоса. Все это, впрочем, – на поверхности. Драма же русской мысли намного серьезней, и ее корни уходят в глубокое прошлое.
Истина и бытие в истине: русская мысль и западная философия
Русский ли характер, исторические ли условия влияли тут – не берусь решать. Но несомненно, что философии «головной» у нас не повезло. Стародумовское: «Ум, коли он только ум, – сущая безделица» – находит отклик, кажется, во всяком русском.
Павел ФлоренскийДревняя Русь, получив христианство из Византии, по различным причинам была лишена богатейшего греческого философско-богословского наследия. Существует, по крайней мере, два основных объяснения этой драматической ситуации: отсутствие основания, подобному античности, на котором возникла христианская культура как в Греции, так и в Риме, и отрыв от греческого и латинского языков как источников христианского просвещения. Густав Шпет видел в этом стержневую драму русской культуры: «Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций, литературы, истории? Солунские братья (Кирилл и Мефодий) сыграли для России фатальную роль… И что могло бы быть, если бы, как Запад на латинском, мы усвоили христианство на греческом языке?»
Человек совсем иного типа о. Сергий Булгаков, потрясенный крушением Империи и Церкви, в своей исповедальной книге «У стен Херсониса» (1922), опубликованной лишь через 50 лет после его смерти, как это ни странно, совпадает в своей концепции со скептиком и агностиком Густавом Шпетом, и лишь несколько иначе расставляет акценты. В принятии христианства от Византии, говорит он, «исторические судьбы России определились как трагедия, трагедия культурного одиночества и обособления, как крестный путь». Различие исторического возраста между Византией и Русью «было так велико, что исключало всякую мысль о дружеском сотрудничестве»… В результате славянские племена были способны воспринять только внешность византийского обряда, но не византийскую культуру во всем ее многообразии: «Поэтому русское христианство на долгое, долгое время обречено было на обрядоверие… И тогда уже было положено начало тому внешнему христианству, которое за обрядом оставляет нетронутой всю звериную языческую стихию, которая через 1000 лет крещения Руси ныне предстала пред нами, как будто не бывало ни Киева, ни Херсониса…»
Конечно, бессмысленно обсуждать историю в сослагательном наклонении, но так или иначе драматическая ситуация обозначена предельно ясно: получив греческое христианство на славянском языке Древняя Русь была обречена на одиночество и оторвана от источников богословского и философского просвещения. Русь была крещена, но не просвещена, поэтому на протяжении столетий мы обнаруживаем здесь если не полное отсутствие, то, по крайней мере, явную недостаточность как богословской, так и философской мысли. Более того, подозрительное отношение ко всякому отвлеченному теоретическому гнозису стало органической составляющей русской культуры. Как в средневековой Руси мы встречаем постоянные выпады в адрес «еллинского блядословия», так и в светской литературе XIX–XX вв. – от Гоголя до Пастернака – звучат резкие инвективы в адрес любого умозрительного аналитического знания, убивающего и разрушающего «живую жизнь». Это также связано и с другим важным аспектом влияния Византии на Киевскую и Московскую Русь.
Как отмечают историки христианства, в развитии Византии наступил естественный момент, когда в основных чертах ее культура была завершена, был подведен определенный негласный итог. Этим итогом стала сакрализация прошлого, что, впрочем, совершенно неизбежно для любой средневековой культуры. «Всякое новое касание богословских тем, всякую постановку новых вопросов нужно теперь уже свести к этому прошлому, – так характеризует Александр Шмеман эту эпоху. – Святоотеческое предание, подтвержденность, хотя бы внешним, авторитетом Святых Отцов в виде ссылок и цитат, иногда даже вырванных из общей связи, становится как бы гарантией благонадежности». Именно в это время Русь была крещена в православную веру, и вместе с ней пришло убеждение, «что все разрешено и заключено в прошлом и что ссылка на это прошлое одна дает гарантию православия».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русское молчание: изба и камень"
Книги похожие на "Русское молчание: изба и камень" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень"
Отзывы читателей о книге "Русское молчание: изба и камень", комментарии и мнения людей о произведении.