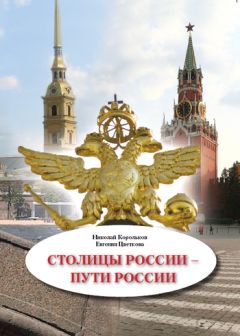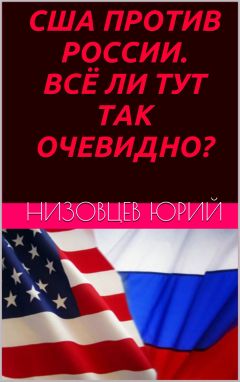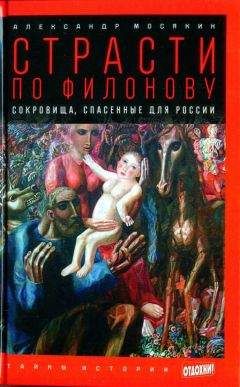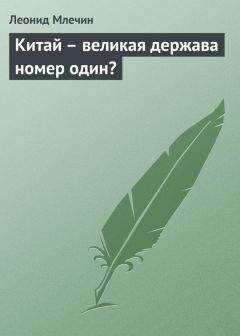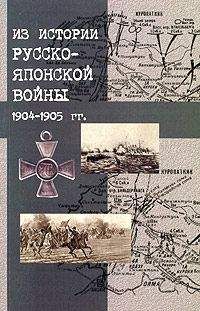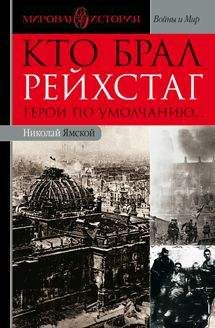Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русское молчание: изба и камень"
Описание и краткое содержание "Русское молчание: изба и камень" читать бесплатно онлайн.
В книгу известного петербургского писателя, философа, историка П. В. Кузнецова включены историко-философские новеллы, рассказы, эссе, посвященные крупнейшим писателям, философам, мыслителям России, русского зарубежья и Запада – П. Чаадаеву, Л. Шестову, Н. Бердяеву, В. Набокову, Д. Святополку-Мирскому, Борхесу, Хайдеггеру, Сартру, Симоне де Бовуар, Юлиусу Эволе, Жаку Деррида, Жану Бодрийару, Петеру Слотердайку, представителям евразийского движения и др. Особое внимание уделено осмыслению исторической и метафизической судьбы Санкт-Петербурга, противостоящей традиционной «деревянной» России.
Как личности, Шестову удавалось сочетать в себе удивительные, подчас трудно совместимые вещи. Его интенсивная внутренняя жизнь, мучительная драма и даже некоторая надломленность были заметны внимательным современникам, но, с другой стороны, Шестов вполне ориентировался в практической жизни. Время от времени по необходимости он был вынужден помогать отцу и братьям в их финансово-коммерческих делах: «Я теперь занят очень и чем? Торгую, – пишет он своей жене из Киева в 1906 г. – Целый день сижу в лавке и по вечерам как-то не пишется… И странно чувствовать себя в обстановке, при которой никогда не бывает повода ни для больших радостей, ни для больших огорчений. Для здоровья это самое лучшее. Я уверен, что займись я торговлей и отучи себя от литературы, я бы скоро совсем оправился. Но я уверен и в другом: через несколько лет такой жизни, я бы снова в один прекрасный день почувствовал бы себя на волосок от сумасшествия. Как все странно и непонятно устроено в жизни! Куда, что тянет человека?»[61]
Личность Шестова начинает двоиться: радикальный иконоборец в творчестве, апологет безумия, позднее поборник веры «по ту сторону добра и зла», в жизни он обладал той внутренней силой, что позволяла быть сдержанным, спокойным, вполне уравновешенным и притом весьма ироничным, даже язвительным человеком. Он совсем не был тем «трагическим безумцем», стремившимся слить жизнь и творчество воедино, которыми полна русская, да и европейская история рубежа столетий. Да, он – экзистенциальный мыслитель, интенсивно переживавший все им написанное, но и прекрасно сознававший, что между творчеством и жизнью всегда остается зазор – их полное слияние невозможно. Мемуаристы отмечают его «умные, добрые и прекрасные глаза», «неотразимое личное очарование»… «Духовной гармонией и миром светилась его улыбка, звучал его голос, и странно было думать, что под этим покровом скрывалось сердце мятущееся, душа, не нашедшая своего последнего предела».[62]С одной стороны, одиночество и внутренняя независимость, сдержанность и дистанция, с другой – «в отношении к близким ему людям ни тени позы или литературного учительства (в те годы это в диковинку) – просто доброта и деловитая заботливость. Одного он выручал из тюрьмы и отправлял учиться к самым ортодоксальным немцам, ничуть не трагическим, другому – беспомощному писателю… добывал издателя, помогал деньгами, разбирал семейные драмы. Все это без малейшей чувствительности. И сам он такой деловой, крепкими ногами стоящий на земле… Во всем облике его простота и в то же время монументальность».[63]
«Философ крайностей» – в жизни Шестов стремился идти «царским путем», эти крайности обходя и избегая. Его любимый персонаж – герой «Записок из подполья», выворачивающий себя наизнанку. Шестов же, напротив, всегда «застегнут на все пуговицы»: никакой «достоевщины», никаких «исповедей горячего сердца», никаких саморазоблачений – видимо, отсюда и его устойчивая неприязнь к психоанализу. «Ох, уж мне эти специалисты по психоанализу! – признавался он А. Штейнбергу. – Помните, Смердяков у Достоевского говорит, что про неправду все написано… Даже сестра моя всегда требовала от меня, чтобы я разанализировался, разоблачился… Они все от меня ждут, чтобы я совершил нечто сверхчеловеческое. Сестре, например, хочется, чтобы я превзошел самого Зигмунда Фрейда, чтобы я сманил Господа Бога на нашу грешную землю. А я вот ни за что не хотел кончить, как Ницше, то есть провозгласить себя «распятым» и засесть в доме для умалишенных. Да! Я против преклонений перед общей меркой и здравым смыслом, но во имя чего-то более глубокого, широкого и высокого, во имя, как говорится, Истины с большой буквы…»[64]
Sola fide: Лютер «по ту сторону добра и зла»
С верой, представляющейся людям безумием, погасить все светочи, озаряющие привычные жизненные пути, и очертя голову броситься в вечную тьму.
Лев Шестов о ЛютереКнига с символическим названием «Великие кануны» (1911) оказалась последней для Шестова, изданной в России. В 1910 году вместе с семьей мыслитель уезжает в Швейцарию, где живет с небольшими перерывами до начала первой мировой войны. Начинается новый период в его творчестве, который условно можно обозначить как переход от «философии трагедии» и метафизического нигилизма к религиозной мысли…
В отличие от своих друзей и коллег – Бердяева, Булгакова, Шпета – Шестов не получил никакого профессионального философского образования, но не только не сожалел, а, напротив, всегда гордился этим. Это проявлялось в постоянных спорах с Николаем Бердяевым, тоже экзистенциальным мыслителем, с которым, однако, они расходились в очень многом. Для Шестова даже Бердяев, всегда презиравший «профессорскую философию», был, тем не менее, слишком «сдавлен немецкой философией» и тем самым лишен внутренней свободы. Бердяев же упрекал его в «шестовизации» авторов, утверждая, «что ни Толстой, ни Достоевский, ни Киркегор никогда не говорили того», что Шестов заставлял их говорить. На что он возражал Бердяеву не менее убедительно: «Только потому, что я не изучал философию в Университете, я сохранил свободу духа. Мне всегда ставят в упрек, что я цитирую тексты, которые никто не цитирует, и нахожу заброшенные тексты. Возможно, если бы я проходил курс философии, я цитировал бы только разрешенные тексты. Вот почему все цитаты я привожу в оригинале – латинском или греческом. Чтобы не сказали, что я их “шестовизирую”».[65]
В упреке Бердяева, несомненно, была значительная доля истины. Шестов вырос целиком из жизни и литературы: благодаря интенсивному погружению и переживанию судьбы того или иного писателя, он открывал в нем то сокрытое, глубинное, что никто не видел за покрывалом общеобязательных штампов и школьных характеристик. Формально его метод похож на психоаналитическую деконструкцию, он никогда не доверяет декларациям, тому, что лежит на поверхности – никто не знает правды о себе самом. Но на этом сходство «герменевтики подозрения» Шестова с психоанализом заканчивается, в остальном они диаметрально противоположны.
В Швейцарии Шестов занимается средневековой философией, читает немецких мистиков и схоластов, отцов Церкви, католических и протестантских теологов и через них приходит к Мартину Лютеру, в котором он увидел «не пресного реформатора, а трагический дух, близкий Ницше» и ему самому. (В России Лютера в то время плохо знали, относились предвзято, и его работы практически не переводились.)
У Леонида Андреева в рассказе «Призраки», действие которого происходит в доме для умалишенных, один из безумцев занимается тем, что все время стучит в запертые двери. Отчаяние Шестова, заставлявшее его делать то же самое, принесло свои плоды. Дверь приоткрылась, и он увидел еще едва различимый свет… Это был свет религиозной мысли, свет Откровения.
В драме молодого монаха августинского ордена, в его «отступничестве», в учении об оправдании sola fide (только верою) Шестов увидел драму, которую пережили и Ницше, и герои позднего Толстого («Записки сумасшедшего», «Отец Сергий», «Хозяин и работник»), и отчасти Достоевский. Вера, как последняя надежда погибающего, не оправдывается никакими добрыми делами, она – вне всего насущного, человеческого, мирского, она ведет в совсем другие миры. Трагическая вера человека, утратившего последние земные надежды, всегда лежит «по ту сторону добра и зла». Лютер, которого Шестов резко отделяет от лютеранства, совпадает с Достоевским («Легенда о Великом Инквизиторе»). Католичество, получив от апостола Петра potestas clavium (власть ключей), поставило себя и свой разум на место Бога, завладев неограниченной духовной властью над миром. Разочаровавшийся в авторитете Церкви Лютер переживает ужасный кризис перед лицом абсолютного Ничто, он погружается в тот божественный мрак, в котором все человеческое не имеет ни малейшего значения. Никакие дела и заслуги не оправдывают человека перед Богом: «Хуже того, дела не только злые, но и добрые обременяют того, кому предстоит последнее испытание, – говорит Шестов. – И даже дела добрые обременяют больше, чем худые. От худых легко отказаться, от добрых трудно, для иных невозможно. Они приковывают к земле, человек хочет видеть в них вечный смысл своего существования».[66]
Книга «Sola fide» не была закончена Шестовым. Перед самым началом первой мировой войны в июле 1914 г. вся семья возвращается в Россию, а рукопись остается в Швейцарии. Работа, где впервые сформулированы его главные религиозные идеи, была опубликована лишь в 1966 году к столетнему юбилею философа. Шестовский Лютер подобен другим его излюбленным героям, в первую очередь, – Аврааму. Согнав ratio с престола, отвергнув внешний авторитет и власть умозрения, Лютер «принимает вечную тьму, погибель, уничтожение… – и идет туда, где по человеческому разумению нет и не может быть спасения». Этот текст почти дословно совпадает со словами из «Послания к евреям» апостола Павла: «Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие; и пошел, не зная куда идет», которые в дальнейшем станут idee fixe Шестова и будут им повторены десятки раз. Иными словами, человек должен оставить все, отречься от своих знаний, привилегий и предрассудков и отправиться в абсолютную неизвестность – только тогда Бог, возможно, услышит его… С этого времени мыслитель по существу уже не меняется – в различных вариациях он будет повторять одно и то же в большинстве своих текстов. Возможно, поэтому «Sola fide» так и не была им опубликована: эти же мысли мы найдем в следующей книге Шестова, которая называется «Potestas Clavium» («Власть ключей»), но она выйдет уже в эмиграции, в Берлине в 1922 году…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русское молчание: изба и камень"
Книги похожие на "Русское молчание: изба и камень" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень"
Отзывы читателей о книге "Русское молчание: изба и камень", комментарии и мнения людей о произведении.