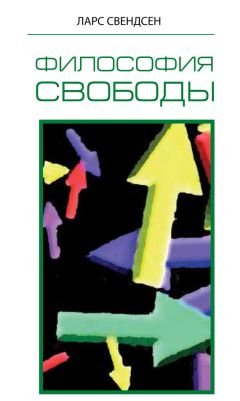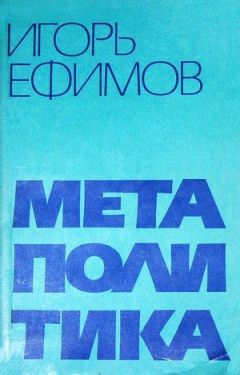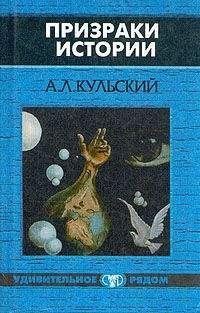Виктор Сиротин - Великая Эвольвента

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Великая Эвольвента"
Описание и краткое содержание "Великая Эвольвента" читать бесплатно онлайн.
В «Великой Эвольвенте» В. И. Сиротин продолжает тему, заявленную им в книге «Цепи свободы», но акцент он переносит на историю Руси-России. Россия-Страна, полагает автор, живёт ещё и несобытийной жизнью. Неслучившиеся события, по его мнению, подчас являются главными в истории Страны, так как происходящее есть неизбежное продолжение «внутренней энергетики» истории, в которой человек является вспомогательным материалом. Сама же структура надисторической жизни явлена системой внутренних компенсаций, «изгибы» которых автор именует Эвольвентой.
Известный обскурантист при дворе Александра, Д. П. Рунич, когда говорил, что помещики «теряли голову только при мысли, что конституция уничтожит крепостное право и что дворянство должно будет уступить шаг вперед плебеям», – говорил не только о своём сословии, но и от его имени. На кабинет Сперанского, писал Ф. Ф. Вигель в своих «Записках», «смотрели все, как на ящик Пандоры, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою всё наше отечество».
Между тем реформы Сперанского, планировавшего деление Страны на губернии и распределение законодательных, административных и судебных властей, способны были изменить облик Страны и её историческую судьбу. Конституционная монархия могла стать звеном, которое не доковал Пётр и необходимость которого не осенила умы его «птенцов». Не случайно в 1808 г. в Петербурге ходил сатирический листок, который куда как ясно трактовал положение дел: «Правосудие – в бегах. Добродетель ходит по миру. Благодеяние – под арестом. Надежда с якорем – на дне моря. Честность вышла в отставку. Закон – на пуговицах Сената. Терпение – скоро лопнет». Потому «ящики Пандоры» Сперанского «остались сосланными в архиве» (А. Герцен), а «пуговицы Сената» продолжали тускло блистать в запустении России. Даже и не отказывая царям в поводах для беспокойства, ибо со времён Ивана IV Россия и впрямь несла тяжкий груз в лице малоспособных к эволюционным процессам обширных окраин империи, следует признать, что инертность правительства была наихудшим из «решений». Поскольку воз проблем, которые всё равно нужно было «тянуть», оставался на месте. Интеллектуальная мощь Сперанского и его историческое видение России использовались вхолостую [34]. Толчение законов в ступе, чему сопутствовало дарование «конституции почитаемой за непримиримого врага России, побеждённой и завоёванной Польше прежде, нежели она была дана победительнице её, самой России», – писал декабрист Д. Завалишин, вызвало негодование элитного офицерства. Александр I, разыгрывая на политической сцене роль всеевропейского благодетеля, в непомерном тщеславии своём обратил «сцену» в позорище (в позднем значении этого слова) России уже потому, что в пику общепринятой практике не потребовал у Франции возмещения убытков от истинно варварского нашествия на Россию. Исходя щедротами не только в отношении побеждённой Франции, царь дал Финляндии Карельский перешеек, отторгнутый Петром от Швеции по Ништадтскому миру (1721).
Михаил Сперанский
В таковых реалиях возмущение широких слоёв русского общества было более чем закономерно. Негодование вызвало то ещё, что, дав финнам (как и полякам) конституционные права, освободив латышских и эстонских крестьян от крепостной зависимости, царь совсем забыл о русских крестьянах. Отменив в 1816–1819 гг. крепостное право в отсталой Прибалтике, но сохранив его для русских мужиков, Александр тем самым унизил историческую, а в свете недавней всенародной победы героическую Россию. Расписавшись в недоверии и боязни собственного народа, царь, в полном соответствии с представлениями Европы о России, – признал Страну неспособной вписаться в культурно-историческое бытие мира; этаким не склонным к цивилизации разросшимся до гигантских размеров «медвежьим углом». Помимо «общих» моментов, участники движения, возглавленного героями Отечественной войны, видели оскорбительным, исторически не перспективным и попросту никчёмным самодержавное «обращение с нацией как с семейной собственностью» (М. Лунин). Один из главных идеологов движения декабристов Никита Муравьёв утверждал в своей «Конституции»: «Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства <…> Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основныя постановления для самого себя».
Соглашаясь отнюдь не со всеми заключениями своего товарища, Павел Пестель был солидарен с Муравьёвым именно в этом вопросе: «Народ есть совокупность всех тех Людей, которые принадлежа к одному и тому же Государству, составляют Гражданское Общество имеющее целью своего существования, возможное Благоденствие Всех и каждаго <…> А по сему Народ Российский не есть принадлежность или собственность какого-либо лица или Семейства. Напротив того Правительство есть принадлежность Народа и оно учреждено для Блага Народнаго, а не Народ существует для Блага Правительства» («Русская Правда»). Говоря коротко, в «Конституции» Пестеля ясно утверждается гегемония «коренного народа русского». Оспаривая тезис Н. Карамзина: «история народа принадлежит царю», идеологи движения провозглашали иной: «история принадлежит народам» (Муравьёв). Более того: русская история – это история свободного народа. Эта теза Муравьёва не только ставила под сомнение догмат российского абсолютизма, но признавала его гибельным для России. «Для Русского больно не иметь нации и всё заключить в одном Государе», – писал перед казнью П. Каховский Николаю I.
Но голос восставших был неслышен, а их мысли – недоступны Николаю. По свидетельству С. М. Соловьева, царь «инстинктивно ненавидел просвещение. <…> Он был воплощённое: “не рассуждать!”». Не случайно Московский университет в глазах Николая виделся «волчьим гнездом», от вида которого монарх, когда проезжал мимо, впадал в дурное расположение духа. Таковое «видение» отнюдь не святого Николая подтверждает академик Ф. И. Буслаев. Словом, концепцию “не рассуждать!” целиком и полностью разделяли «птенцы гнезда Николая».
Современный историк Н. А. Троицкий, много времени уделивший изучению «птенцов» – с уставом в мозгу, розгами в «клювике» и волчьими повадками в отведённой им сфере деятельности – пишет об одном из них: «Шеф жандармов А. Ф. Орлов, провожая за границу друга, наставлял его: «Когда будешь в Нюрнберге, подойди к памятнику Гутенбергу – изобретателю книгопечатания – и от моего имени плюнь ему в лицо. Всё зло на свете пошло от него». Николай I не давал таких напутствий, но в ненависти к печатному слову мог переплюнуть своего шефа жандармов. Самый дух николаевского царствования верно схвачен в реплике Фамусова из грибоедовского «Горя от ума»: «Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы, да сжечь!» [35].
Итак, дворянская реформация была обречена.
Разгром декабристов, среди которых было немало героев Отечественной войны, казалось, надолго расставил все точки над «i». Подобрав на площади сотни изувеченных артиллерийским огнём трупов мятежников, режим ясно указал, кто является «отцом народа» и какими методами будут вестись переговоры с оппозицией. Дым от пушек на главной площади Петербурга развеялся, гарь в сознании русского общества осела страхом, но необходимость реформ государства по-прежнему висела в воздухе. Об этом свидетельствовало экономическое отставание России, в лице функционеров окончательно запутавшейся в синедрионах высшей светской и духовной власти. Положение дел в Стране усугубляли синекуры не в меру разросшегося и в охотку вороватого чиновничества. Однако решительность Николая, начавшись с «дыма декабря», эшафота и последующей казни, ограничилась каторгой и ссылкой противников застоя. Это был показательный урок для тех, кто, мысля и рассуждая вслух, осмеливался ещё и действовать.
Придётся отметить, что в старании угодить царю весь состав суда был единодушен в отношении приговора «декабристам» (за исключением сенатора Н. С. Мордвинова, отличавшегося независимостью своих взглядов), коим было «отсечение головы», вечная каторга, разжалование в солдаты. Пятерых суд приговорил к четвертованию (впоследствии милостиво заменённому повешением). «Даже три духовные особы (два митрополита и архиепископ), которые, как предполагал Сперанский (назначенный царём членом Верховного уголовного суда. – В. С.), “по сану их от смертной казни отрекутся”, не отреклись от приговора пяти декабристов к четвертованию», – сообщает историк (этот факт можно взять на заметку, но не буду настаивать). Далее Троицкий пишет: «10 июня 1826 г. был издан новый цензурный устав из 230(!) запретительных параграфов. Он запрещал “всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение”, а кроме того, многое другое, вплоть до “бесплодных и пагубных (на взгляд цензора. – Н. Т.) мудрований новейших времен” в любой области науки. Современники назвали устав “чугунным” и мрачно шутили, что теперь наступила в России “полная свобода… молчания”.
Руководствуясь уставом 1826 г., николаевские цензоры доходили в запретительном рвении до абсурда. Так, глава николаевского Министерства просвещения Ширинский-Шихматов изъял из учебных программ философию. А когда его спросили – почему, то простодушно ответил: «Польза от философии не доказана, а вред от неё возможен». Другой цензор запретил печатать учебник арифметики, так как в тексте задачи увидел между цифрами три точки и заподозрил в этом злой умысел автора. Председатель цензурного комитета Д. П. Бутурлин (разумеется, генерал) предлагал даже вычеркнуть отдельные места (например: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и звероподобных…») из акафиста Покрову Божией матери, поскольку они, с точки зрения «чугунного» устава, выглядели неблагонадежными. Сам Л. В. Дубельт не стерпел и выругал цензора, когда тот против строк: «О, как бы я желал /В тиши и близ тебя /К блаженству приучиться! – обращенных к любимой женщине, наложил резолюцию: «Запретить! К блаженству приучаться должно не близ женщины, а близ Евангелия» (там же). Это и есть то, что осталось в истории России под названием «николаевская реакция». Вздрогнув и на время оцепенев, Страна впала в спячку, больше напоминавшую политическую кому. Впрочем, этого можно было ожидать.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Великая Эвольвента"
Книги похожие на "Великая Эвольвента" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Сиротин - Великая Эвольвента"
Отзывы читателей о книге "Великая Эвольвента", комментарии и мнения людей о произведении.