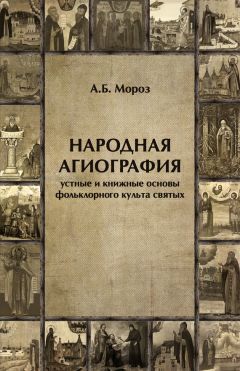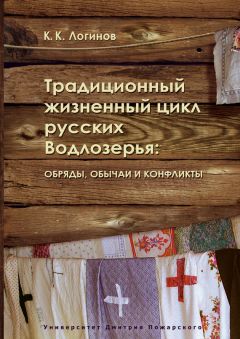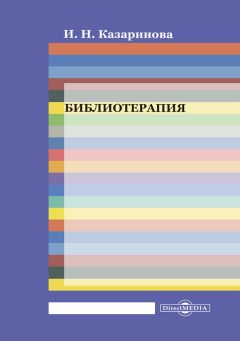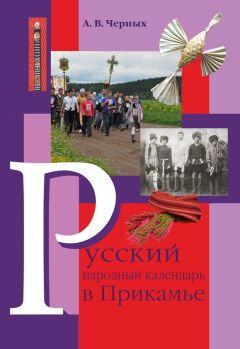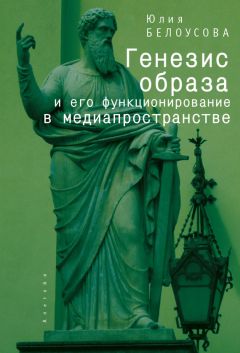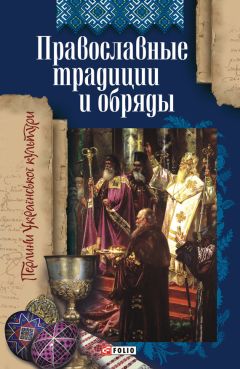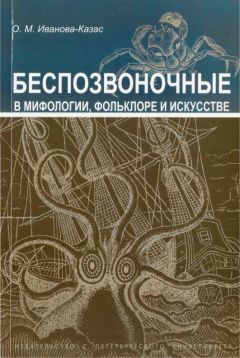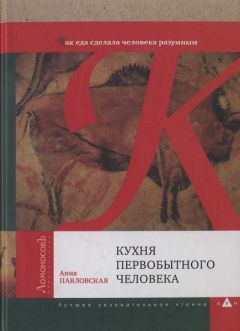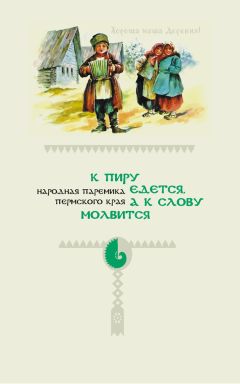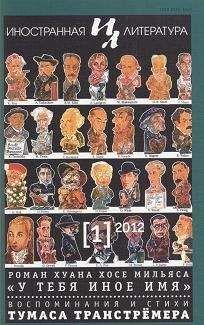Людмила Иванова - Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева
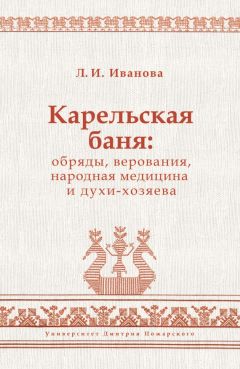
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева"
Описание и краткое содержание "Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева" читать бесплатно онлайн.
Первое комплексное исследование, посвященное карельской бане, выполнено на основе материалов, выявленных в архивах Республики Карелии и Финляндии с привлечением большого количества сведений этнографии, фольклористики, лингвистики, архитектуры и других смежных дисциплин. Основное внимание уделено банным ритуалам и верованиям, бытовавшим у карелов в XIX и XX веках. Подробно рассмотрены обряды жизненного цикла, проводимые в бане, и любовная магия. Впервые исследуются мифологические представления, на которых базируется народная медицина, а также банный этикет и верования, связанные с духами-хозяевами бани. Изучение банного локуса, сакрального для карелов, позволило представить еще один аспект архаичного мировосприятия народа, демонстрирующего на обозримом этапе синкретизм языческих и христианских представлений.
У девичьей бани выделяется несколько основных функций. Это баня прощания с девичьей «волей». В причитаниях невесты неоднократно подчеркивается, что она идет в баню не мыться и не париться, а «с белой волюшкой расстаться»[254]. Финский исследователь И. Вахрос отмечал функции очищения, приобретения плодовитости, а также отчуждения (в результате отлучения невесты от статуса девушки) от своих родовых духов-покровителей[255]. Здесь же происходит прощание с духами-хозяевами бани, отлучение выдаваемой замуж девушки и от их покровительства. Эта баня была последней в ее родном доме, после свадебного обряда она больше не имела права заходить в нее[256].
Не случайно ряд магических обрядов, подчеркивающих существование культа предков и являющихся как бы логическим продолжением ритуала прощальной невестиной бани, в XIX веке совершался и на кладбище. Накануне собственно свадьбы (выданья) невеста посещала могилы покойных родственников, прощалась с мудрыми «сюндюзет»-прародителями-помощниками и брала благословение «в новую жизнь»[257]. В первой половине XX века этот обряд утратил свой архаический смысл и исполнялся, если только невеста была сиротой[258]. На кладбище в XIX веке проходил и обряд оберегания невесты и жениха, в процессе которого происходило отлучение девушки от родной земли и рода и приобщение к роду жениха. Патьвашка, произнося заговоры, левым башмаком невесты зачерпывал воду с берега и на кладбище давал трижды испить ее сначала невесте, потом жениху[259]. И в Новом Завете Иисус говорит: «посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут два одной плотью»[260]. В Приладожской Карелии вечером накануне свадьбы невеста крошила на подоконник хлеб, затем приоткрывала окно (окно в похоронно-поминальном ритуале – один из путей прихода-ухода душ умерших родственников на поминки), лила квас, чтобы крошки упали наружу. При этом она просила «сюндюзет» прийти «попить кваску» и благословить ее счастливой долей в доме мужа: «Не знаю, смогу ли вас пригласить туда, будет ли там такая волюшка»[261]. Как известно, в бане невеста прощается именно со своей волей, со своим биосоциальным статусом девушки. Разлука же с родным домом и родной баней мыслилась как вечная, ибо возврат туда был уже невозможен.
Культ предсвадебной девичьей бани был особенно развит у южных карелов. У ливвиков и людиков именно банные причитания занимают чуть ли не главное место в свадебном обряде[262].
Обилие причитаний и грустных лирических песен, особенно во время обряда свадебной бани, позволило исследователям назвать девичью баню слезливой и соотнести ее с погребальным культом (невеста прощается и со своей волей, и со старой жизнью, и с прародителями). В Сегозерье говорили, что в бане не просто причитывают, а оплакивают саму баню virzitetaa kylyy[263].
Как пишет Ю. Ю. Сурхаско, ритуал девичьей (невестиной) бани включал в себя несколько обрядовых действий: приготовление бани, сборы невесты в баню, путь в баню, мытье и путь из бани[264]. При этом весь процесс был строго регламентирован, предписывалось до малейших деталей соблюдать все наказы и табу.
Обряд neiskyly[265] устраивался или под вечер накануне свадьбы, или утром перед приездом жениха за невестой. Чаще всего это происходило в субботу[266]. Перед баней невесте с плачами расплетали косу и затем накидывали на голову платок[267]. Запрещалось притрагиваться к волосам невесты вдовам, сиротам и обездоленным людям, чтобы не спроецировать такую же жизнь и для выдаваемой замуж девушки. Невеста через плачею (чаще всего это специально приглашенная плакальщица, но иногда это мать или тетя), причитывая, просит, чаще всего подруг (девушек), истопить «последнюю баню»: «d’älgimäizet sotkakylyzet» – «последние баенки нырка», «jällindostarnoit kaunehet kanakylyzet» – «самые последние красивые баенки курицы», «dostal’noit valdu kylyizet» – «последние вольные баенки»[268]. Во время ухтинской свадьбы в причитании своя, родная баня четко противопоставляется чужой, неродной бане будущего мужа: «Ennen olis pitän, lehvojaiseni, hienoin leik-kuurauvoin lemmen nuoret lehtoliemenyöt leikkualTa, ennen kuin lemmen omattomih lehvomaisih varoin levittelettä» – «Лучше бы моя [меня] в бане парившая [мать] тонким режущим железом обрезала бы мои молоденькие вольные волоконца/первошерстки [волосы], чем распускать их для ухода к неродным в бане пареным [в семью мужа, к чужим]»[269].
При этом она требует «крепко караулить» ее, особенно не подпускать к ней представителей рода жениха. Они могут предпринять попытки похитить окно[270] или дверь бани (это, с одной стороны, мифологические пути в иной мир и «канал связи»[271] с ним, а с другой – символы дефлорации)[272]. Окно играет особую роль и в похоронном обряде. На окно, под которым лежит покойник, кладут блюдо с пирогами, чтобы все умершие родственники могли прийти на угощение. Туда же ставится каша с холодной водой, чтобы душа умершего, выходя из тела, могла омыться в «холодной водушке»[273].
С дверью, с порогом и притолокой связаны и представления о сохранении и поднятии лемби. Н. А. Лавонен считает, что «через дверь могли унести лемби». Именно поэтому в одной из карельских загадок на ее движение оглядывается весь народ[274]. В некоторых случаях эманацией любви и доброй славы, удачи, счастья, судьбы, доли (lembi означает все это) являлась дверь. Именно поэтому во время свадебных банных ритуалов невестина сторона, один род, охранял дверь бани, а род жениха – старался похитить. С другой стороны, дверь была оберегом, некоей границей, которая стояла на пути нечистых духов. Если она закрыта, это было гарантией благополучия в доме, а если открывалась, все смотрели (весь «народ», в том числе и первопредки-сюндюзет под порогом), не проскользнул ли в дом нежеланный «гость» с целью похитить любовь-славу-удачу-судьбу не только девушки, но и всего рода.
В то же время, по мнению исследователей, и дверь, и окно являются частью генитальной символики, их кража ассоциируется с дефлорацией[275]. Поэтому их утрата была недопустима в девичьей бане.
Для невестиной бани все требовалось особое, наполненное религиозно-магическим смыслом. Весь процесс подготовки бани сопровождался песнями, которые пели подруги невесты.
Дрова брались часто трех сакральных видов. Это были «легкие» дрова: обязательно ольха[276], «ласковое, мягкое деревце»[277] (Крошнозеро), липа (Сямозеро, Олонец) и клен (Сегозерье); так как березовые дрова, согласно карельским причитаниям, сулят «жестокосердие, беспокойство», еловые – суковатые, «кручину приносящие», сосновые – неровные, «печальные», осиновые – «будет заморозками прихваченная жизнь, бранчливая», ивовые – «тоску наводящие»[278]. Но в реальности иногда это были рябина, береза, засыхающая сосна. Использовались и деревья, наполненные особой энергетикой, связанные с культом огня и воды: поваленные бурей или грозой, сломанные молнией, сухие колосники из риги, «веселые плавуны», принесенные водой. При этом изначально дрова нельзя было рубить и колоть топором и «острыми орудиями», их ломали «мирскими руками да с веселыми песенками»[279]. Эти традиционные установки особенно хорошо сохранились в свадебных причитаниях. Баня, натопленная такими дровами, продуцировала счастливую жизнь в новом роду и доброго, любящего мужа.
Иногда в причитаниях упоминаются совершенно экзотические породы деревьев, например, кипарис. В далекой древности, возможно, такие дрова и использовались, так как климат был иным, и древесные породы, свойственные современным южным областям, могли произрастать и на данной территории (например, дубы, очень часто встречающиеся в карельских эпических песнях). Но, скорее всего, здесь сказывается влияние славянской традиции и православия. Сакрализация кипариса связана с тем, что, по народным русским поверьям, именно из этого дерева был вырезан крест, на котором распяли Христа. Об этом говорится во многих духовных стихах, записанных на разных территориях, в том числе и в Карелии. Например, действие стиха «Сон Богородицы» происходит у «святого дерева кипариса»:
Спала я ночись, ночевала
Во городе я, у Удеи,
У этого чудного креста,
У этого у древа кипарична[280].
Или:
Кипарис древо всем древам мати.
Почему ж д’она всем древам мати?
Распят был на ней сам Иисус Христос[281].
Сегодня воспоминания об экзотических породах деревьев в свадебных причитаниях и песнях лишь подчеркивают, что дрова для невестиной бани требуются особые, наполненные сакральным смыслом.
Однозначно запрещалось топить осиной, елью, можжевельником, иногда и твердой березой. Такие дрова, согласно народному мировоззрению, связаны с миром мертвых Туонелой-Маналой и болезнями, они могли навлечь на будущую жизнь горе, злость, кручину, недуги и различные несчастья.
Существует множество различных вариантов банных причитаний. В одних невеста устами плачеи просит топить баню не осиновыми, не березовыми, а сосновыми mändyzillä дровами, чтобы муж был мягкосердечным[282]. В другом плаче говорится, что баня топится даже не дровами, а цветами: «Этими цветочками аленькими, этими цветочками аленькими топите баню, баеночку девичью последнюю». До этого девушка спрашивала, «выбросили ли из печи все головешки»[283]. Это, конечно, исключительно образное описание дров, с одной стороны, продуцирующих счастливое замужество, а с другой, являющихся символом умирания-сжигания девичьей воли. Иногда в ответ девушки причитывали:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева"
Книги похожие на "Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Людмила Иванова - Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева"
Отзывы читателей о книге "Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева", комментарии и мнения людей о произведении.