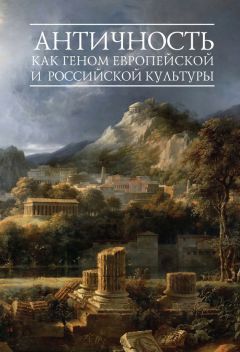Е. Бакеева - Введение в онтологию: образы мира в европейской философии
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии"
Описание и краткое содержание "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии" читать бесплатно онлайн.
В учебном пособии рассматриваются основные проблемы и понятия онтологии как фундаментальной философской дисциплины. Обращение к традиционной онтологической проблематике осуществляется в опоре на идею философии как «логики культуры», сформулированную в творчестве отечественного мыслителя В.С. Библера. В контексте этой идеи культуры европейской Античности, Средневековья, Нового и Новейшего времени предстают как целостные, обладающие самостоятельной ценностью ответы на вопрос о бытии или определенные способы осмысления-осуществления бытия.
Признание этой многомерности пространства и времени требует, в свою очередь, признания следующего парадокса: эта многомерность может быть осмыслена только… из внепространственной и вневременной точки, – мы опять возвращаемся к платоновскому «вдруг», с которым встретились в диалоге «Парменид». Что же это за точка? Можем ли мы, размышляя об этом «вдруг», признать существование какого-то абсолютного пространства (пространства всех пространств) и абсолютного времени (времени всех времен)? Этот вопрос в очередной раз возвращает нас в исходную точку мысли в рамках онтологии Единого, к той единственной задаче, которая и выступает здесь внутренним двигателем всего мышления: понять мир как единое во многом. Если приложить эту интуицию «единого во многом» к понятию пространства, то окажется, что сама задача понимания требует от нас помыслить, с одной стороны, внепространственные и вневременные структуры, посредством которых и оформляется стихия Единого (идеи, числа, формы), а с другой – саму эту стихию, которая еще только может стать оформленным пространством. Последнее, таким образом, никогда не может быть началом, но всегда возникает как промежуточный результат соединения двух начал – предела и беспредельного.
Именно поэтому в своем диалоге «Тимей» Платон объявляет такое «пространство пространств» плодом «незаконного умозаключения»: «…есть еще один род, а именно пространство: оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно. Мы видим его как бы в грезах и утверждаем, будто всякому бытию непременно дóлжно быть где-то, в каком-то месте и занимать какое-то пространство, а то, что не находится ни на земле, ни на небесах, будто бы и не существует. Эти и родственные им понятия мы в сонном забытьи переносим и на непричастную сну природу истинного бытия, а пробудившись, оказываемся не в силах сделать разграничение и молвить истину, а именно что, поскольку образ не в себе самом носит причину собственного рождения, но неизменно являет собою признак чего-то иного, ему и дóлжно родиться внутри чего-то иного, как бы прилепившись к сущности, или вообще не быть ничем»109.
Речь здесь, по сути дела, идет именно о промежуточности пространства, которое всегда оказывается в состоянии возникновения, становления, в то время когда происходит оформление (структурирование) стихии Единого. Поэтому, только уже находясь внутри какого-то определенного пространства, мы в состоянии мыслить и все остальные пространства – как возможные и пространство как таковое – «посредством незаконного умозаключения», т. е. представляя себе пространство вне становления. Это означает, в свою очередь, неизбежность еще одного парадоксального вывода: не только чистое пространство невозможно помыслить вне становления, но и чистые (вневременные и внепространственные) сущности или структуры, что на первый взгляд совершенно противоречит учению Платона.
Вспомним, однако, что сама идея идеи, числа или структуры выступает в онтологии Единого как необходимый момент задачи осмысления мира, т. е. «чистая идея» необходима мне именно потому, что я застаю себя в том месте (пространстве), в котором идея уже смешана с материей, а предел – с беспредельным. Иными словами, чистые (неподвижные) идеи, так же как и чистое (неизменное) пространство, могут быть осмыслены человеком только в движении, коль скоро сам человек – как подобие мира в целом – тоже есть соединение материального (изменчивого) и формального (неизменного) начал. Собственно, сама задача понимания и возникает в первичном ощущении этой изменчивости и связана с необходимостью эту изменчивость ограничить. Это ограничение и есть оформление неоформленного, что отнюдь не означает остановку стихийного потока материи, но – его упорядочивание. Однако определенный порядок движения есть не что иное, как ритм, и не случайно это понятие приобретает и в онтологии Единого, и в греческой культуре в целом поистине фундаментальное значение. «Ритм, – замечает А. В. Ахутин, – есть то, что превращает множественное, изменчивое, текущее (движение, время) в цельную форму, но форму движения, жизни (игра, пение, танец-исполнение). С одной стороны, есть то, что подлежит ритмизации, “материя” ритма, чистое течение-время, с другой – есть ритмизирующие фигуры, благодаря которым время становится заметным и вместе с тем словно схваченным, одоленным»110.
Итак, ритм есть не что иное, как способ оформления неоформленного, и тем самым – способ построения пространства. В зависимости от того, какой ритм задается первоначальной стихии Единого (совпадающей со своим движением), возникает то или иное определенное пространство, включающее в себя человека и окружающий его мир. При этом от степени «сгущения и разрежения» (А. Ф. Лосев) пространства зависит и степень его упорядоченности: преобладание материального (стихийного) начала делает пространство и время более изменчивыми, «текучими», характеризующимися неустойчивостью существующих вещей и явлений. Напротив, преобладание начала порядка (идей, чисел, форм) создает более «разреженное» пространство и «замедляет» время, именно поэтому повышение степени упорядоченности приближает к вечности.
«Время и движение тела, – пишет А. Ф. Лосев об античном космосе, – будет разное в зависимости от абсолютного положения данного тела в космосе. На Луне – свое время и свое движение, на Солнце – опять свое и т. д. Это время и движение сжимается и ускоряется по мере приближения к миру неподвижных звезд, где движение достигает фактического максимума. Дальнейшее увеличение движения и уплотнение времени приводит к уничтожению пространственного тела и превращению времени в вечность. Таким образом, чем ближе к Небу, тем тело и вещь становятся более пронизанными смыслом и более умными. Чем они ближе к Земле, тем тела более тяжелы и массивны, менее подвижны, тем пространство более равномерно и механично. Кроме того, чем тело ближе к последним сферам неба, тем оно быстрее движется, с поумнением самого движения, и тем плотнее и собраннее становится его время, т. е. тем ближе к вечности, являющейся пределом временны́х становлений»111. «Тяжесть» и «массивность» земных тел совсем не противоречат здесь их большей изменчивости по сравнению с «небесными», «умными» телами, ведь устойчивость тела держится на его идее (форме); чем тело «плотнее» (более нагружено материей), тем оно более подвержено опасности распада, исчезновения, превращения во что-то иное.
Но самое главное заключается в том, что само понимание пространства и времени как многомерных, «расширяемых и сжимаемых» не позволяет рассматривать пространственные и временные категории («верх» и «низ», «временность» и «вечность») как безотносительные, безразличные к мыслящему их Уму и соответственно к человеку. Последний – в качестве мыслящего – обладает способностью «пробегать» все эти пространственно-временные сферы, всякий раз настраиваясь на тот или иной соответствующий ритм. Таким образом, мы получаем еще одно объяснение умозрительного характера греческого мышления: здесь обнаруживается, что «мнение», основанное на чувственном восприятии, и умозрение как непосредственное созерцание идей – это не две «познавательные способности», принадлежащие человеку, но разные степени выраженности, проявленности ума, соответствующие разным способам организации пространства и времени.
Именно поэтому гармонизация, упорядочивание своей собственной души («через» которую действует все тот же космический ум) может переместить человека ближе к небесным, «умным» сферам, а душа хаотическая, отягощенная вещественностью тянет человека вниз, в неустойчивую земную область, как об этом говорится в поэтически-мифологическом описании странствий души в платоновском диалоге «Федр»: «Всякая душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая порой разные образы. Будучи совершенной и окрыленной, она парит в вышине и правит миром, если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое, – тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой; а что зовется живым существом, – все вместе, то есть сопряжение души и тела, получило прозвание смертного»112.
Крылья, поднимающие душу над земными телами, и можно, по-видимому, рассматривать как образ той гармонии (ритма), которая характеризуется минимальной степенью телесности. «Умное зрение», таким образом, есть способность упорядоченной души, воспринимающей все существующее в его подлинном виде, в отличие от телесного восприятия, затемняющего истину вещей. Здесь мы снова возвращаемся к одному из важнейших положений онтологии Единого: истина доступна только тому, кто существует как можно более истинным образом, уподобляясь подлинному бытию. Теперь мы можем прояснить характер этого уподобления: приобщение к истинной жизни предполагает прежде всего гармонизацию ритма души. Именно эта гармонизация, как отмечает А. В. Ахутин, выступает основной целью и способом «мусического» образования человека как у пифагорейцев и Платона, так и в греческой культуре в целом: «Мусическое образование (1) делает самого человека малым строем (микрокосмосом), способным настроиться на строй мира (в целом), телом, душой, умом войти в этот строй (как участник хора входит в общий танец)… Но мусическое образование (2) делает человека также и умным инструментом, органом постигающего восприятия космической жизни, которая воспринимается и мыслится им как музыкальная форма»113.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии"
Книги похожие на "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Е. Бакеева - Введение в онтологию: образы мира в европейской философии"
Отзывы читателей о книге "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии", комментарии и мнения людей о произведении.