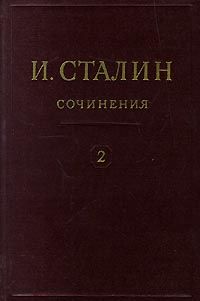Коллектив авторов - Югославия в XX веке. Очерки политической истории

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Югославия в XX веке. Очерки политической истории"
Описание и краткое содержание "Югославия в XX веке. Очерки политической истории" читать бесплатно онлайн.
Книга отражает современный уровень изучения в России истории югославянских народов в XX в. В опоре на новейшую литературу и доступную источниковедческую базу прослеживается возникновение югославского государства в 1918 г., складывание его институтов и политической системы, большое внимание уделяется событиям Второй мировой войны, освещается период социалистической Югославии, который закончился так называемым югославским кризисом – распадом государства и чередой межэтнических гражданских войн.
Для историков и широкого круга читателей.
Тем не менее, союзники продолжали давление – уж слишком велик был соблазн втянуть в войну Софию. По мысли официального Петрограда, «выступление Болгарии при настоящих условиях важнее вероятного ухода Пашича и возможного временного возбуждения в Сербии»41. И вскоре последовал очередной совместный демарш (теперь уже от имени четырех держав) с требованием уступить Македонию. Но Пашич наотрез отказался приступить к подготовке общественного мнения своей страны в нужном для союзников духе, полагая это их требование «неприемлемым». «Сербию распинают, в самую критическую минуту ее ампутируют»42, – заявил он поверенному в делах России В.Н. Штрандтману. И, думается, сербский премьер имел право на столь эмоциональное и «неполитичное» заявление, ибо какое у него еще могло сложиться впечатление, если «уступка, требуемая в пользу Болгарии, вполне определенна, тогда как от Сербии дружественные державы скрывают содержание соглашения с Италией (по требованию последней. – А.Ш.) и не посвящают ее в переговоры с Румынией»43.
Логичность и внутреннюю правоту непреклонной позиции Пашича признавали даже некоторые политики Антанты. Так, Дэвид Ллойд Джордж писал в феврале 1915 г. Э. Грею: «Я полагаю, что позиция сербского премьер-министра останется неизменной. Я сомневаюсь, чтобы он мог согласиться отдать значительную часть сербской территории заранее, не получив взамен ничего определенного. Это произвело бы такое расхолаживающее впечатление на сербскую армию, что парализовало бы ее действия. Сербская армия так блестяще сражалась, что это было бы для нее несчастьем»44. Прав оказался будущий премьер Великобритании – позиция сербского лидера так и осталась неизменной.
Когда 3 августа державы представили Пашичу новую, Бог весть какую по счету, ноту аналогичного содержания, с некоторыми, правда, нюансами, тот заявил русскому посланнику, что «Сербии остается бороться из последних сил не только с Австрией, но и с собственными союзниками за защиту родной земли и кровных интересов». Выразив свою благодарность России за то, что «она все сделала, что могла», сербский премьер был непоколебим в главном – «требовать от нас невозможного она не может». Когда же Г.Н. Трубецкой, по его собственным словам, «обратил внимание Пашича на опасность, добиваясь всего (а речь шла о нежелании держав дать какие-то гарантии в отношении Хорватии, их „молчании“ о словенских землях, а также о нейтрализации и того куцего участка побережья, который „выделялся“ Сербии. – А.ДГ.), ничего не получить, и на то, что сербам предстоит сделать выбор между Македонией и южным славянством», тот ответил: «Мы выбираем Македонию!»45.
В официальном ответе, понятно, он не мог пользоваться столь прямолинейным слогом. Выраженный в иной форме, сербский демарш, однако, мало что менял по сути – Сербия соглашалась с уступкой Македонии болгарам при условии «формального обещания союзных держав в том, что Хорватия с городом Риекой будут объединены с Сербией, что словенские земли будут освобождены и получат право на свободное самоопределение, что к Сербии будет присоединена западная часть Баната, совершенно необходимая для обороны столицы и долины Моравы[80]». Передача македонских земель предполагалась сразу же, «как только Сербия вступит во владение обещанными ей территориями, а равно теми, которые упомянуты выше»46.
Такое «согласие» не могло, естественно, удовлетворить союзников, желавших получить от сербов все и немедленно. Те же стояли на своем твердо, готовые скорее «с честью погибнуть, чем идти на самоубийство»47. Ситуация складывалась тупиковая, напоминавшая затишье перед бурей, и она не замедлила разразиться грозой – в октябре 1915 г., после начала третьего, теперь уже совместного австро-мадьяро-германского, вторжения в королевство, под командой немецкого генерал-фельдмаршала Августа фон Маккензена, Болгария вступила в войну на стороне Центральных держав и немедленно напала на Сербию.
Это было жестоким поражением союзной дипломатии, в чем в немалой степени повинен лично С.Д. Сазонов, с порога отметавший все предостережения сербов и князя Трубецкого в отношении болгар, которые уже с лета проводили неприкрытые военные приготовления. С какой целью – понимали все, кроме, увы, русского министра. В самой категорической форме запретив Пашичу какие-либо превентивные меры против Софии, Сазонов, по словам очевидца (чьи мемуары мы уже цитировали), был крайне удивлен, когда «Болгария не испугалась угрозы войны с Россией и сама напала на Сербию».
И, как полагал тот же очевидец, занимавший в годы Первой мировой войны ответственный пост в здании на Певческом мосту, «вся последующая трагическая и драматическая эпопея сербской армии, прошедшей с огромными потерями через Албанию, все ужасы голода и истощения, занятие Сербии неприятельскими войсками – все это, несомненно, последствия несчастного решения Сазонова воспрепятствовать нападению Сербии на Болгарию»48. Тяжелейшее отступление, которое народ прозвал «Сербской Голгофой», завершилось в начале 1916 г., когда остатки армии, вместе с тысячами беженцев, были эвакуированы с албанского побережья на остров Корфу, ставший отныне резиденцией сербского правительства.
Подлинное – т. е. когда уже нечего требовать – отношение западных союзников к Сербии особо наглядно проявилось как раз во время арьергардных боев сербов на двух фронтах. Все просьбы сербского руководства о помощи остались гласом вопиющего в пустыне. Реальной поддержки не последовало. И, действительно, зачем ее оказывать – как заметил еще в начале войны британский посол в Париже лорд Берти, «сербский вопрос не таков, чтобы сражаться из-за него»49. Тот же Ллойд Джордж констатировал: «Сербия была оставлена союзниками на произвол судьбы»50.
Но наибольший цинизм во время «Сербской Голгофы» в отношении гибнущих сербов проявили «новые друзья» – итальянцы, которые, как мы помним, желали «получить гарантию, что Сербия будет вместе с Италией продолжать войну против Австро-Венгрии вплоть до ее гибели». Так вот, когда обескровленные остатки сербской армии появились на албанском побережье, то обещанной итальянскими «союзниками» продовольственной помощи и кораблей для эвакуации не было. Мало того, Консульта откровенно оттягивала их предоставление51. И это – когда австро-венгерские войска, после капитуляции Черногории, стремительно настигали сербов. В январе 1916 г. генерал Жозеф Жоффр писал Аристиду Бриану, что «препятствия всякого рода, чинимые итальянским правительством эвакуации сербских войск, могут привести к потери части этой армии»52. Не того ли в тайне и желали в Риме, полагая ее опасной для своих интересов в Албании и Далмации? Так, по крайней мере, рассуждал сербский посланник в Петрограде Мирослав Спалайкович53. А генерал Пиарон де Мондезир на полном серьезе поинтересовался у генерала Бертолли: «Ваше превосходительство, объясните – вы за сербов или против них»54.
Ситуация складывалась катастрофическая, и тогда 5 января генерал М.В. Алексеев подал Николаю II записку: «Сербский военный агент сейчас передал мне телеграмму». Она «хорошо характеризует положение остатков сербской армии и отношение к ним Италии, затаенные мысли этой державы, объясняющие ее действия. Дипломатия Согласия бессильна что-либо сделать, чем-либо помочь. Спасти доблестные остатки сербской армии, которая еще сослужит великую службу Союзу, может только державное, настойчивое слово Вашего Императорского Величества президенту Французской республики и английскому королю. Гибель сербских солдат ляжет позором на Францию и Англию, в руках коих были все средства, но не было желания, или было много веры в одного из союзников – Италию, который этой веры не заслуживал»55.
Такое «державное и настойчивое слово» императора (причем, не без скрытой угрозы) прозвучало и положило-таки конец столь откровенному рецидиву «священного эгоизма»[81] – итальянские и другие союзные корабли начали перевозить сербов на Корфу56…
Здесь снова остановимся и постараемся обобщить сказанное.
Итак, в 1915 г. союзники, вместе с Сербией, потеряли Балканы. Историография СССР упрекала за то «крайнего шовиниста» Н. Пашича, который сорвал все усилия по вовлечению в войну Болгарии (профессор Ф.И. Нотович)57. Современная отечественная литература гораздо более взвешенна. «Предполагаемая комбинация была для Сербии неприемлемой, а потому и мертворожденной»58, – совершенно справедливо утверждает профессор В.Н. Виноградов. И соответственно – «антантовская дипломатия безнадежно запуталась в межбалканских противоречиях и выглядела пассивной, будучи не в силах сдвинуться с мертвой точки»59. Именно она и есть главный виновник поражения. Но спрашивается, был ли хоть какой-нибудь выход из тупика? Думается, что все-таки был. И находился он в прямой связи с югославянской программой сербского правительства, точнее – с возможностью ее реализации.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Югославия в XX веке. Очерки политической истории"
Книги похожие на "Югославия в XX веке. Очерки политической истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Югославия в XX веке. Очерки политической истории"
Отзывы читателей о книге "Югославия в XX веке. Очерки политической истории", комментарии и мнения людей о произведении.