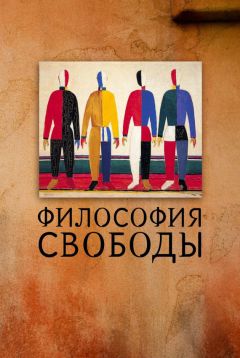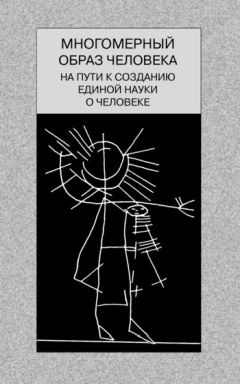Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований"
Описание и краткое содержание "Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований" читать бесплатно онлайн.
Что такое «результат» в философии, в гуманитарном знании, можно ли его замерять и оценивать так же, как в позитивной науке? Какие ограничения при этом необходимо иметь в виду, оценивая результат, а тем более принимая управленческие и даже политические решения, касающиеся науки? Как можно сделать такого рода оценки более корректными? Насколько можно доверять зарубежным базам данных, их репрезентативности в отношении российских исследований? Эти и ряд смежных вопросов поставили перед собой авторы данного издания.
В качестве эмпирического аргумента можно привести тот факт, что по негласным, но всеобщим оценкам лучшие, самые сильные, изощренные и проницательные умы в истории человечества принадлежали именно философии. В известном смысле и все по-настоящему великие ученые в какой-то момент становились в своей науке, а то и вне ее именно философами – или не были великими. Причем они становились философами именно в тот момент, когда они, выходя на предельные обобщения, вдруг вскрывали возможность сомнения в отношении очевидностей – того, что «понятно» всем, разумеется «само собой», а потому не промысливается.
Эту функцию философии как критики очевидностей можно с полным правом генерализировать. Если гигантские слои непромысливаемого «само собой разумеющегося» присутствуют даже в науке, можно представить, какие залежи всего этого филистерского интеллектуального богатства складированы мертвым грузом в обыденном сознании. В том числе в бесчисленных архетипах и штампах сознания, имеющего дело с культурой, политикой, экономикой, социальными отношениями и пр.
В этом смысле философия работает как в отношении конкретных мыслительных клише, так и в качестве деятельности, культивирующей и собственно рефлексию, и интеллектуальную дисциплину как таковую. В таком ракурсе философия оказывается наиболее беспощадной и требовательной к себе разновидностью мышления, познания и самопознания. Даже позитивная наука дает себе известные поблажки, не доходя до предельных оснований, а то и вовсе отказываясь их обсуждать как мешающие решать текущие познавательные, исследовательские задачи. Философия по мере сил дает образцы такой бескомпромиссности и тем самым тренирует в человечестве способность прикладывать максимально концентрированные усилия по выходу за пределы очевидного.
Для России это всегда было особенно актуально: «И позже всего просыпается в русской душе логическая совесть – искренность и ответственность в познании»[3]. Г. Флоровский рассматривал эту беду русского катастрофизма предельно широко – как свойство души крайне впечатлительной, а потому не успевающей вернуться к себе. Отсюда удивительная последовательность именно в отречениях и верность интеллектуальными изменам.
Если брать этот вопрос совсем контурно, можно было бы остановиться на той особой роли в деле введения в России регулярной философии, которую сыграл здесь советский марксизм. Безотносительно к содержанию этой доктрины и даже независимо от того факта, что внедрилась она большей частью нерефлексируемыми штампами, идеологическими клише, важно учитывать и то движение в сторону интеллектуальной дисциплины и критичности, которое имело место и в лучших экземплярах профессиональной философии, и даже в дореволюционных рабочих кружках, в которых не просто насаждалось новое клише, но именно снималось клише старое, причем с участием рациональной процедуры, хотя бы и минимизированной. Можно показать, какую поистине историческую роль сыграли рациональный марксизм и само учение об идеологии и революции в деле развенчания… самого марксистско-ленинского учения, а затем и обрушения режима в целом.
В этом плане философия всегда содержит в себе угрозу для власти и политики – даже когда она активно участвует в рациональной легитимации строя. В той точке, в которой философия отделяется от идеологии, она начинает учить человека думать – даже если она учит человека думать «правильно». Чем-то это напоминает классическое образование, в котором изучение мертвых языков, казалось бы, бесполезное, приучало мозги к систематической работе.
Тем не менее власть, как правило, покровительствовала философиям, находя легитимацию даже не в философических текстах, а в самом ее присутствии. Можно, конечно, считать, что рациональное обоснование власти гораздо больше работало на консолидацию режимов, нежели зачатки критической мысли – на подогрев фронды. Однако здесь многое значила и сама модель: если эта власть от Бога, значит, она должна быть максимально плотно окружена и изделиями «божественного» качества, и авторами, дар которых тоже имеет божественное происхождение (первоначально талант как дар и был даром именно божьим). В этом смысле философия была атрибутом укорененной, сильной власти вовсе не только «просвещенной». Если же брать только идею силы, то по-настоящему сильная, уверенная в себе власть демонстрирует эту свою железобетонную укорененность всеми возможными способами, вплоть до приближённых шутов, которым позволялась едва ли не любая крамола. И наоборот, страх перед свободной мыслью – верный признак режимов в себе неуверенных, не чувствующих себя в достаточной мере легитимными.
Проблема эффективности и востребованности такого знания является двусторонней: это и способность что-то существенное дать – но и готовность (или неготовность) предложенное взять, а тем более принять и использовать. Не будучи востребованными, некоторые функции философии если не отмирают, то во всяком случае засыпают.
Если всерьез относиться к задачам модернизации, нетрудно убедиться в том, что в интеллектуальном плане это проблема в первую очередь именно философская. Именно философский взгляд на вещи в полной мере вскрывает тот факт, что задача смены вектора развития с сырьевого на инновационный, по сути, означает преодоление извечной российской ориентации на сырьевой экспорт, начиная с леса, льна, пеньки и воска и заканчивая нашим нынешним слегка модернизированным топливно-энергетическим и нефтегазовым комплексом. Это задача много сложнее построения планового хозяйства или, наоборот, обустройства на его руинах некоего подобия цивилизованного рынка. И именно философия в состоянии в полной мере показать, что эта задача не решается только лишь усилиями в области экономики и технологий, что она также по необходимости затрагивает институты, социальную сферу, политику, идеологию и Т.Д., вплоть до глубинных архетипов сознания.
Сейчас в обществе ведется на редкость активная полемика по части стратегии и перспектив развития, методов выхода из назревающего тупика и пр. Специальный анализ мог бы показать, сколько во всем этом дискурсе латентной, толком не осмысленной философии, построенной на обрывках знаний и выдернутых цитатах из свежеканонизированных классиков. Профессиональная философия могла бы многое в этом потоке расчистить и сделать более фундированным и осмысленным, однако на это, как уже говорилось, помимо предложения нужен спрос.
8. «Гуманитарный разворот» в публичной активности власти. Реабилитация идеологического
В последнее время публичная активность власти явно смещается в сферу сознания, идеального. На первый план, таким образом, выходит гуманитарная составляющая: принципы, идеи, ценности. Впервые за долгие годы на высшем уровне прямо заговорили об идеологии. Ключевые понятия здесь (как бы к ним ни относиться) – духовные скрепы, идентичность, патриотизм. Можно говорить о своего рода гуманитаризации публичной политики, хотя и безотносительно к качеству этого процесса, его интеллектуальному обеспечению и возможным последствиям.
Особая тема – причины такого разворота, очевидным образом связанные не только или даже не столько с духовными запросами политиков, а тем более общества, сколько с усложнявшейся ситуацией в реальной сфере – в экономике, социальной политике, в продвижении инноваций и объявленной модернизации в целом.
В анализе идеологических процессов есть понятие «прореживание дискурса»: важно, что говорится, но не менее важно, о чем умалчивается, что вдруг исчезает, становясь «идеологически несуществующим».
В текстах власти экономика явно отходит на второй план и дальше. Если и говорят об инвестиционном климате, то уже не про условия деловой активности, а про коррекцию имиджа, производство впечатления. Это важно, поскольку идеальная, психологическая и пр. тому подобные составляющие экономической деятельности долгое время недооценивались. Однако в данном случае часто создается впечатление, что таким образом пытаются не дополнить, а едва ли не заменить реальную экономику, с которой дело обстоит уже не так хорошо, как казалось совсем недавно.
Инновации, высокие технологии и другие идеологические, пропагандистские хиты недавнего времени также отодвинуты на второй план в дискурсе власти и всплывают лишь в дежурных контекстах программного уровня, когда их отсутствие выглядело бы совсем скандальным. Модернизация также стала словом «нон грата». Это очевидно связано с тем, что в данных стратегических направлениях, еще совсем недавно считавшихся приоритетными, не было достигнуто заметных результатов.
Все это имеет самое прямое отношение к философским и социогуманитарным исследованиям в стране. Не будет преувеличением сказать, что в свете таких изменений социогуманитарное знание должно было бы выйти на первый план как в русле общей переориентации, так и с известной долей прагматики: смена курса такого рода нуждается в основательном интеллектуальном обеспечении.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований"
Книги похожие на "Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований"
Отзывы читателей о книге "Идеи и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований", комментарии и мнения людей о произведении.