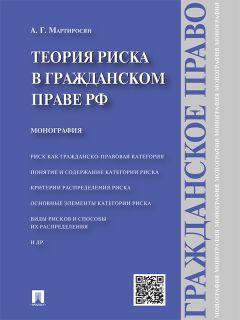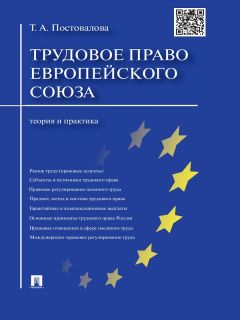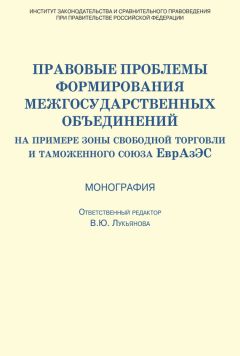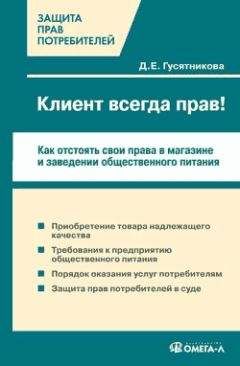Сергей Шевцов - Метаморфозы права. Право и правовая традиция
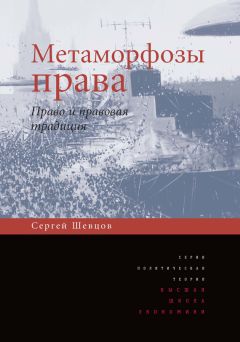
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Метаморфозы права. Право и правовая традиция"
Описание и краткое содержание "Метаморфозы права. Право и правовая традиция" читать бесплатно онлайн.
В монографии исследуются механизмы и условия формирования традиции негативного правосознания в нашем обществе. Эта традиция становится устойчивой уже к концу XIX века, в силу чего возникает вопрос о формировании правосознания и о сущности права. Данная работа посвящена решению этих теоретических и методологических вопросов. Автор рассматривает механизмы развития права, начиная с «универсального уровня права», присущего отношениям между животными. Опираясь на исследования этологов и политических антропологов, он предлагает логическую модель, согласно которой развитие общества определяется степенью интеграции индивидов, что ведет к становлению в качестве фундаментальной категории человеческого существования потребности в доверии и выделению роли категории исключительности для становления социума. Это позволяет вскрыть общую модель формирования механизмов правосознания и определить сущность самого права.
Книга адресована специалистам в области философии, права, социальной и исторической психологии, теории культуры и политологии, а также всем, кто интересуется социальной философией и методологией изучения социальных проблем.
По мере распространения и укрепления христианства отношение к праву претерпело серьезные изменения. Насколько выражают восприятие ранними христианами существовавших правовых норм сохранившиеся тексты – от апостольских посланий до текстов апологетов, судить трудно (имея в виду правосознание). Вероятно, отношение колебалось от внутреннего противопоставления до открытого неприятия, но в целом христианство делало акцент не на изменениях позитивного права, а на внутреннем усвоении новых норм организации жизни (т. е. больше на морали) и организации жизни общин, едва ли носивших правовой характер. Но с утверждением христианства в качестве официальной религии Римской империи и для возникших впоследствии новых христианских государств стала проблематичной ситуация, когда государственная организация и позитивное право рассматривались как противостоящие христианской религии. Государственная власть и право представали непосредственными виновниками многочисленных случаев мученичества, что укрепляло и без того устойчивое негативное отношение к верховной власти. Потребность в пересмотре отношений между позитивным правом и нормами христианской морали должна была возрастать, подобное положение дел рождало необходимость в новом обосновании легитимности правовых норм, т. е. в новой правовой идеологии.
В конечном итоге, как известно, официальное право получает свое обоснование как право, установленное по воле Бога. Уже в Кодексе Феодосия (принят в 438 году) присутствует идея о божественном происхождении законов (Книга XVI «Об универсальной или католической церкви», где едва ли не впервые законы, связанные с религией, являются предметом правотворчества); Корпус Юстиниана (VI век) включает конституцию «О составлении Дигест» (Deo auctore), в которой говорится, что законы упорядочивают дела божественные и человеческие и что эти законы со времен Ромула и основания Рима остаются в смешении, а в конституции «Об утверждении Дигест» (Dedoken) утверждается, что приведение в порядок древнего права выполнено по Божьему дару[212]; в эдикте короля Хильперика, titulus VIII к «Салической правде» (VI век), излагающей древнее право германцев, также употребляется выражение «во имя Божье»[213]. Не будет грубой ошибкой предположить, что с какого-то момента начались попытки уже существовавшее (языческое) традиционное право представить как божественное установление в силу того простого факта, что это право упорядочивало жизнь христианского общества. И все же ситуация оставалась крайне запутанной: параллельно существовали несколько систем права, статус которых оставался не вполне ясен и отношение к которым разнилось – Законы Моисея (и вообще нормы Ветхого Завета), правовые нормы и традиции христианских общин (в основе которых лежали положения Нового Завета), меняющееся под воздействием местных обычаев и христианских норм римское право (долгое время остававшееся официальным правом на территории империи), наконец, правовые системы варварских народов. Власть также оказалась разделена между государственными и церковными структурами. Это разделение прав и властей решалось различным образом в разное время и в разных регионах, но к XI веку на Западе возникло противостояние церковной и светской властей (борьба папы и императора) в первую очередь по вопросам юрисдикции, а на Востоке к этому времени светская власть взяла верх над церковной.
Как говорилось выше, процесс осмысления права в христианском мировоззрении носил сложный и не всегда последовательный характер. На данном этапе нас больше интересует западная традиция, так как для начала нужно уяснить традиционное западное понимание права. В рамках данной работы мы можем лишь обозначить некоторые, как нам представляется, ключевые моменты формирования этого нового осознания.
Исходным пунктом и образцом нового понимания мира для христиан выступал Новый Завет; чтобы понять выраженное в нем осознание роли права, лучше всего обратиться к посланиям апостола Павла, прежде всего – Посланию к Римлянам[214]. Это Послание стало предметом многочисленных комментариев, затрагивающих самые различные области далеко за пределами теологии. Значимость Послания к Римлянам еще больше возросла с появлением протестантизма: этому тексту отводится особая роль в истории идейного становления Мартина Лютера, поэтому протестантские теологи снова и снова будут обращаться к Посланию Павла, содержащему «в сжатой форме наиболее систематическое выражение богословских взглядов апостола»[215].
Данный текст апостола исследователи относят к периоду между 57 и 59 годами[216]. В этом Послании среди других вопросов Павел рассматривает проблему соотношения закона и благодати. Традиция под «законом (νόμος)» понимает Закон Моисеев, Закон, данный Богом через Моисея; кроме того, этим термином в грекоязычной среде обозначали также все Пятикнижие Моисеево [Лк., 24:44][217], а в некоторых случаях – Десять заповедей[218]. Но у этого термина были и другие значения, в том числе «закон вообще, позитивное законодательство», «языковое явление, корпус текстов или речевых актов», «управляющий принцип или сила» и др. Павел в своем Послании задействует самые различные смыслы этого термина[219], в силу чего однозначно определить отношение к закону (праву), а также, например, отношение между законом и праведностью (как должным образом жизни) не представляется возможным[220]. Тем не менее понимание Павлом закона (Закона) заложило длительную традицию восприятия, в том числе и позитивного права, традицию, явный след которой просматривается у М. Лютера[221] и позже – до К. Барта[222] и современных теологов и христианских юристов[223].
Если мы попытаемся взглянуть на то, как Павел оценивает роль закона в жизни человека, то увидим достаточно высокую оценку[224]. Очень приблизительно отношение Павла к закону (речь о Законе) можно выразить следующим образом: прежде всего закон – благой дар Бога своему народу [Рим., 9:4], но для остальных людей (народов) он – откровение истинного и живого Бога. Но закон сам по себе (хотя в нем нет ничего плохого) оказывается слаб при соединении с человеческим естеством: он позволяет обнаружить грех [7:7][225], но не дает силы преодолеть его; это слабость не закона, а нашей природы [8:3]. Павел подчеркивает мысль о необходимости закона, но также и его недостаточности: нельзя «оправдаться делами закона»[3:20], хотя заповеди Ветхого Завета сохраняют действенность в качестве руководящего принципа христианского поведения: «итак любовь есть исполнение закона» [13:10] (та же мысль в [Гал., 5:14]). Закон понимается как указатель правильного пути для начального этапа к вере в Иисуса Христа – как наставник, «детоводитель (παιδᾶγωγός)»[226] [Гал., 3:24]. Закон свят [Рим., 7:12] и духовен [7:14], но он всецело относится к земному существованию человека.
В ряде случаев апостол противопоставляет один закон другому: «в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего (βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσιν μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου)» [7:23][227]. Некоторые исследователи даже считают эти два закона (закон духа жизни и закон греха и смерти[228]) иными, нежели святой закон – Закон Моисеев[229], но вероятнее будет предположить, что Павел в своем Послании выстраивает сложное противопоставление, где на одной стороне – «закон» как принадлежность иудейской общине и (хотя, может быть, и не в равной мере) «закон» как принцип действий моего естества, а на другой – «закон» как данные Богом нормы для добровольного следования. Только последний является Законом в полной мере, хотя формально (и буквально) закон иудейской общины от него не отличается (в отличие от закона как принципа действия естества). Для Павла важно подчеркнуть, что с приходом Иисуса Христа мир изменился, и прежние нормы действуют только в той мере, в какой они утверждают новый мир – мир общности во Христе как иудеев, так и бывших язычников. Иудейская община – община избранных, получившая дар Закона, но сама по себе принадлежность этой общине (даже при условии выполнения норм), как и внешнее следование закону, не обеспечивает праведности и не гарантирует обретение Божьей милости. Гораздо ближе к ней те, кто даже будучи язычниками (в прошлом) следуют Закону по своему сердцу и уму: «Обрезание ничто и необрезание ничто, но все – в соблюдении заповедей Божиих» [1 Кор., 7:19], так как именно они в состоянии воспринять изменившийся мир через веру в Христа. «Сам моральный закон, который Бог открыл народу Израиля, всего лишь поставил перед глазами людей то, чего они не желали читать в собственной совести, куда он, тем не менее, уже был вписан»[230]: поэтому те, кто умел читать в своей совести и в своем сердце, оказались ближе к тому, чтобы воспринять Христа, чем те, кто следовал тому же закону как внешне установленной норме.
Именно в этом смысле альтернативой закону выступает благодать как основание [Рим., 3:24] и вера как условие оправдания: «человек оправдывается верою, независимо от дел закона» [3:28][231]. Это существенно меняет отношение к старому закону: он не отрицается, но предстает своего рода «подготовительным этапом»: «Не отвергайте благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер» [Гал., 2:21]. В целом для последующей традиции именно такое отношение к закону оказалось преобладающим[232]. Как его выразил Э. Жильсон: «Христианин прежде всего уповает не на свои добродетели, не на свою праведность и заслуги, а на то, что благодать позволит ему их обрести»[233]. Дело иногда доходило до почти прямого противопоставления – Василий Великий (IV век) в своих «Нравственных правилах» пишет следующее: «(Невозможно удостоиться небесного царства тем, которые не показали в себе, что евангельская правда больше правды подзаконной)» [Прав., 43, гл. 3][234] («подзаконная правда» – закон, данный Израилю).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Метаморфозы права. Право и правовая традиция"
Книги похожие на "Метаморфозы права. Право и правовая традиция" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Шевцов - Метаморфозы права. Право и правовая традиция"
Отзывы читателей о книге "Метаморфозы права. Право и правовая традиция", комментарии и мнения людей о произведении.