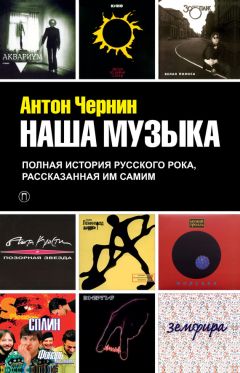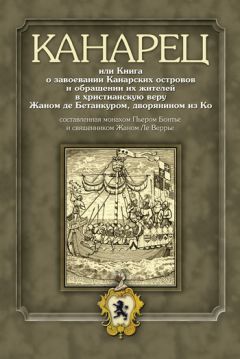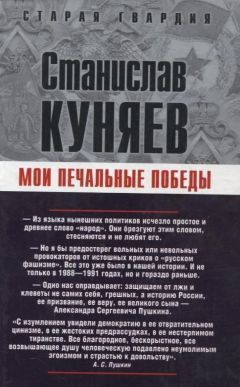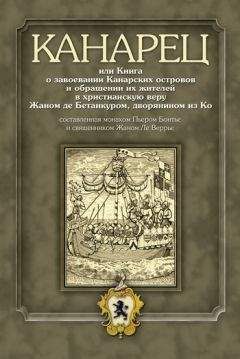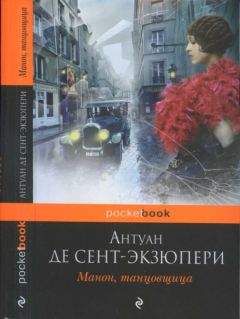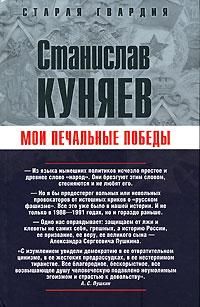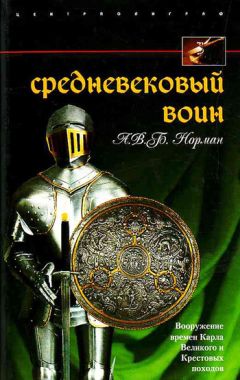Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи
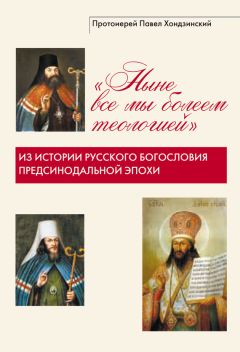
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Описание и краткое содержание "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена истории русской богословской мысли второй половины XVII – начала XVIII в. На материале эпохи прослеживается вхождение русского богословия в «поле напряжения», заданное парадигмами Нового времени, а также начальная рецепция им идей августинизма, оказавшего впоследствии заметное влияние на внутреннее развитие традиции. В приложениях к основному тексту представлены как давно не переиздававшиеся и малодоступные, так и впервые переведенные автором книги на русский язык тексты, относящиеся к теме исследования.
Истинный корень этого различия заключается в том, «что разумная тварь во всех ее добровольных действиях в конце концов с необходимостью находит удовлетворение либо в Боге, либо в творении… В свою очередь не иную какую духовную любовь в этом различении полагает Августин, если не ту, что вдыхается и вливается в сердца наши Духом Святым; не иную какую похоть, если не ту, что развращает и оскверняет разумную тварь»[148]. Следственно, кроме этой благодатной духовной любви ничто не может отвратить человека от греха, ибо только даруемое ею духовное наслаждение может преодолеть греховное наслаждение похоти и подлинно освободить волю.
Итак, «в безгрешном состоянии была только достаточная благодать, благодать творения, которая была помощью, не без которой – sine quo non; благодать искупления является помощью, посредством которой – quo. Благодать творения подчиняется свободной воле человека, это так называемая достаточная благодать; благодать искупления подчиняет себе свободную волю, это действенная благодать; следовательно, в первом случае свободная воля, будучи главной причиной действия, может стяжать собственные заслуги; во втором случае, когда благодать является главной причиной, свободная воля не может снискать заслуг (это дар Божий)»[149].
При этом, согласно Янсению, утверждать, что благодать уничтожает волю, нельзя, поскольку невозможно, чтобы мы не желали того, к чему влечемся. Воля действует, но действует, следуя преобладающему наслаждению, влекущему к праведности или ко греху. И если даже в момент действия благодати воля не может противиться ей, то возможность сопротивления остается и может реализоваться, как только действие благодати ослабеет или прекратится. Более того, «человек не становится добрым, если не желает этого, но благодатью Божией утверждается в том, чтобы желать»[150], и далее: «…если не будешь действовать, Бог не будет содействовать»[151]. Именно в этом пункте Янсений видел отличие своего учения от кальвинизма, отрицающего свободу вообще[152].
Что же до вопроса о том, почему Бог одним дает, а другим не дает свою побеждающую похоть благодать (gratia victrix), то можно только сказать, что это дело предопределения, относящегося к делам Божественного Промысла, и предведения, относящегося к делам человека. После грехопадения человечество представляет собой massa peccata[153], из которой Бог иного извлекает, а иного оставляет в ней. При этом «добрые дела, которые могут делать грешники, в то время когда они правильно поступают, это дары благодати и влияние Божественной любви; но, однако, они не нарицаются избранными, предопределёнными по вечным повелениям Бога, потому что они не будут пребывать в праведности до самой смерти; напротив, грехи, через которые могут претыкаться избранные во время своей жизни, совершенно не являются предопределением, поскольку предопределение применимо только по отношению к действиям Божиим, однако эти грехи присутствуют в плане предопределения, потому что Бог попускает грешить избранным до тех пор, пока они не станут более смиренными и не осознают в полной мере необходимость благодати. Все дела обращаются во благо тех, кого предопределил Бог»[154].
Если Янсений в своем учении сосредоточился прежде всего на вопросе о благодати оправдания и ее действии в отношении к чувственным влечениям человека, то в том же XVII веке возникло учение, центр тяжести сместившее в сторону мотивации движений воли, – пункт важный для Янсения, но не разрабатывавшийся им так подробно, как первый. Этим учением стало учение о чистой любви архиепископа Камбре Франсуа Фенелона. Будучи вполне согласен с янсенистами (и с блаженным Августином) в начальных представлениях о том, что любовь к Богу есть подлинная душа всех добродетелей и что только дело, совершенное ради этой любви к Богу Самому по себе, может подлинно считаться христианским, он далеко разошелся с ними, с крайней остротой поставив вопрос: как возможна вообще бескорыстная любовь к Богу, Которым движемся и есмы! Этот вопрос всегда присутствовал в глубине христианской традиции, особенно в аскетико-мистических учениях, однако Фенелон[155] был, по-видимому, одним из первых, кто открыто поставил его перед всей Западной церковью.
В отношении человека к Богу, говорит Фенелон, можно различить несколько степеней: на низшей – человек стремится исполнить заповеди и жить добродетельно только ради преимуществ, которые ему это дает[156]. На более высокой ступени находится любовь «смешанная» – melange, – любящая Бога столько же ради Него, сколько и ради надежды на спасение. Наконец, высшее место в этой иерархии любви занимает чистая или бескорыстная – «незаинтересованная» – любовь – amour desinteresse, – которая любит Бога ради Него Самого[157] и будет любить Его, даже если предположить, что Он захочет лишить ее вечного блаженства[158]. Достижению состояния чистой любви предшествует период сознательного делания добродетелей, направленного на уничтожение самости[159], причем особенно следует остерегаться как чувственного восторга, так и поиска благодатных состояний[160]. Сему рано или поздно последуют «последние искушения»[161] – epreuves extremes, – во время которых душа переживает состояние оставленности (abandon), подобное тому, которое пережил на кресте Спаситель, взывавший: Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня покинул? В этом состоянии душа признаёт, что не достойна спасения, и тем самым приносит Богу «абсолютную жертву своими интересами в вечности»[162]. Прошедшие через последние искушения в свою очередь входят в состояние чистой любви или «пассивного созерцания». Пассивного не в смысле ничего неделания, но в смысле того, что душа уже не желает ничего для себя сама, но только того, что хочет от нее и для нее Бог. И хотя все делаемое душой в этом благодатном состоянии и должно совпадать с той волей Божией, которую открывает нам Писание и учение Церкви[163], «чистое созерцание» делает ненужным специальную заботу об исполнении отдельных добродетелей, ибо все они суть лишь проявления чистой любви и обретший ее тем самым исполняет и их[164]. То же самое следует сказать и о самом «пассивном созерцании», которое есть непосредственное переживание богообщения, относительно которого все чувственные или рассудочные представления о Божестве суть низшие ступени, присутствующие в нем не раздельно, но как частное в общем[165]. Впрочем, во дни земной жизни устойчивое пребывание в этом состоянии невозможно[166].
Итак, Истинная любовь прилепляется к «некоей вещи ради нее самой». Однако если в этом «прилеплении к вещи ради нее» таится, согласно блж. Августину, «наслаждение» (frui) любви, то самое наслаждение, которое свойственно «gratia victrix» Янсения, – то Фенелон утверждает со всей определенностью, что прилепиться к вещи ради нее самой означает не искать в ней источника собственного наслаждения. Следовательно, «чистая любовь» к Богу тогда только заслуживает своего названия, когда не смотрит на Него как на источник блаженства. По-другому это сформулировано «в невозможном предположении» мистиков: «если Богу угодно будет не спасти, а погубить меня, я буду любить Его нисколько не меньше, чем в раю»[167]. Что это предположение не чуждо было и восточной традиции, ясно указывает святитель Феофан Затворник: «Любить Бога, как Бога, с полным самопожертвованием, без всяких видов, есть чистая любовь. Лествичник говорит о себе, что хотя бы и в ад послал его Бог, он и там также неизменно будет любить Его всею душою»[168]. Как бы то ни было, ясно, что эта мысль, развитие которой Фенелон прослеживал от святых древней неразделенной Церкви до современности, разрушает представления о монолитном «юридизме» западной традиции, который вменял ей в вину в том числе и Юрий Федорович Самарин.
Наконец, если Янсений подчеркивал: «При действии благодати мы не становимся… приводимыми в движение извне, как воск, который принимает тот узор, который на нем тиснят; мы движемся, мы действуем, мы следуем знанию, выбору, удовольствию»[169], – то любимым образом Фенелона, напротив, был образ человека, привязанного к другому, ведущему его, чьи движения он непременно должен повторять, чтобы следовать за тем [170]. Отсюда и различный взгляд Янсения и Фенелона на воздействие благодати. По Фенелону, благодать предваряет, но не для того, чтобы победить волю человека, а для того, чтобы освободить ее[171]. При этом хотя он, как и томисты, говорил об индифферентизме воли, но разумел под ним совсем другое. Для него последний означал не равную возможность выбора добра или зла, но отказ от собственного выбора, от «самости», ради того чтобы всегда с равным согласием следовать выбору Бога. Это согласие должно быть не следствием рефлексии, а следствием прямого и непосредственного акта воли – акта чистой любви, что, в свою очередь, подводило мину под картезианство с его принципом рефлексии как основного закона человеческого существования.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Книги похожие на "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Отзывы читателей о книге "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.