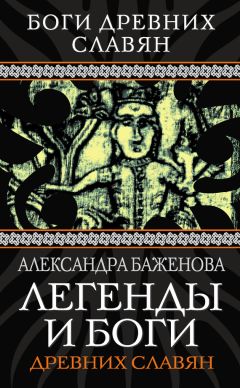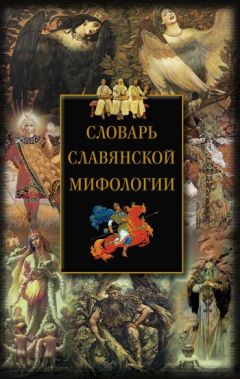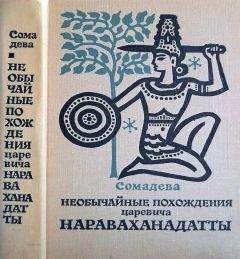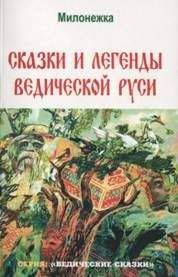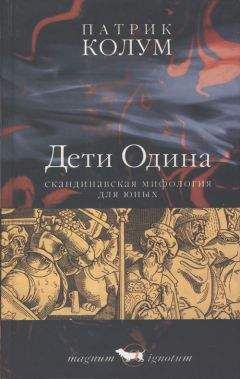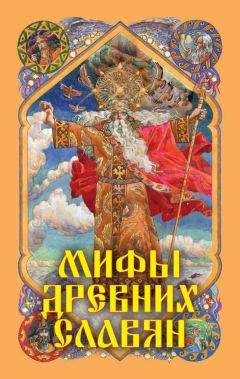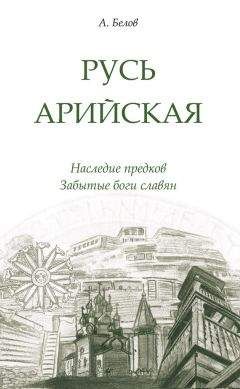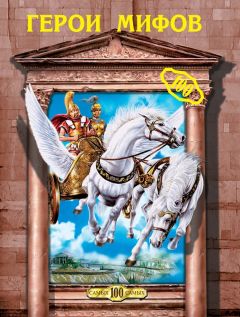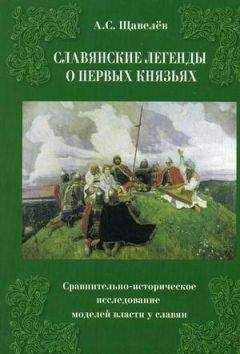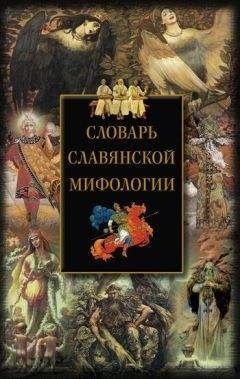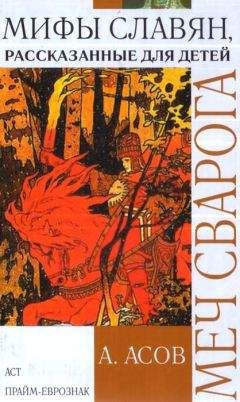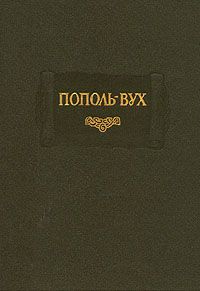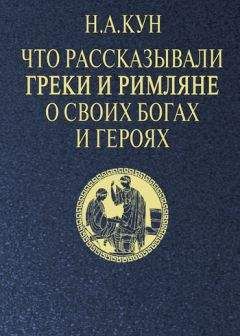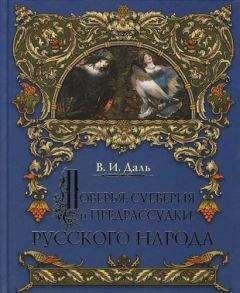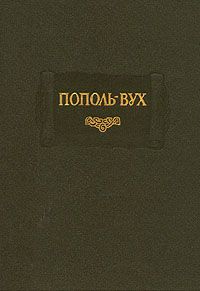Аполлон Коринфский - Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа"
Описание и краткое содержание "Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа" читать бесплатно онлайн.
Данная книга представляет собой масштабный труд талантливого русского писателя Аполлона Аполлоновича Коринфского (1868-1937), которому удалось собрать богатейший этнографический материал, исследуя запутанное переплетение сохранившихся языческих мифов и обрядов и христианства на Руси, историю всех праздников, поэтические воззрения славян на природу и мироустройство.
Это плод более чем двадцатилетних наблюдений автора над бытом крестьянина-великоросса, дополненных сравнительным изучением всех ранее появлявшихся в печати материалов по русской и славянской этнографии. Самостоятельные наблюдения автора сосредотачивались преимущественно на Нижегородско-Самарском Поволжье (губерниях Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской).
Осина, трепещущая при одной мысли о своем вековечном позоре, осина заклеймлена в народной молви проклятием. «Горькая осина – проклятая Июдина виселица!» – говорит деревенский люд, вспоминаючи о том, что это дерево избрал предатель Света Истины для своей смертной петли. «Какое проклятое дерево без ветра шумит?» – загадывается об осине загадка. В чернолесье сплошь да рядом встретишь обок с «Июдиной виселицей» кудреватую липу, приманивающую пчел – Божьих работниц – своим медовым цветом, а лесопромышленника – соблазняющую лыком да лутошками. Пахари-лапотники, глядючи на липу-щеголиху, повторяют друг за дружкой: «Шел я по дорожке, нашел лисят, все на липке висят. У них лапы гусины, а сами в башмаках; я их – тык, а они с липки – шмыг!» (лыки) или: «На дереве – лип-лип, а на ноге скрип-скрип!» (лапти), «В избу – вороном, а из избы – лебедем!», «На Туторевом болоте туторь туторя убил; кожу снял – домой взял, мясо там бросил!» (лутошка) и т. д. О можжевельнике ходит новгородским полюдьем такое крылатое слово: «Дерево – елево, три года – ягода, на четвертый год – в голову кок!», «Ты, рябинушка, ты кудрявая!» – поется в симбирской песне, подслушанной в стороне от Волги, за Свиягой-рекой. «Красненько, кругленько, листочки продолговатеньки!» – обрисовывает это деревцо новгородский люд; «В лесу на кусту – говядинка весит!» – говорят самарские луковники, ставропольские огородники. «Под ярусом-ярусом – зипун с красным гарусом!» – вторят самарской загадке пензенские загадчики, словно соперничая с теми в красовитости речи. О дереве вообще – обмолвился-молвит русский народ во многом множестве красных-цветистых речей. «Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает!» – покрывает все эти речи воронежское присловье. Листва – главную красу дереву придает. Оттого-то, вероятно, и величают лист «Паном Пановичем» в русском народе. «Пан Панович упал в колодец, – говорит деревня, – воды не смутил и сам не потонул!» Чернолесье представляется глазам русского сказателя зимою – «с седой бородой», летом – «в шубе». У черного леса, по словам подлесных жителей, успевших за свой век приглядеться к жизни каждой травки в лесной понизи, летом новая вырастает, осенью старая отпадает. «Все паны скидывали чапаны, один пан не скинул чапан!» – говорит охочий до загадок-отгадок сельский люд, разгуливая взглядом от чернолесья к краснолесью.
«Лес – богат, не то что наш брат!» – приговаривает питающаяся от его щедрот, перебивающаяся с хлеба на воду беднота. «Он, лес-то, купец пузатый: всяким харчом, всяким товаром торгует!» – добавляет бывалый человек, исколесивший лесные просеки-засеки из конца в конец. «В лесу – и обжорный ряд, в лесу – и пушнина, в лесу тебе – и курятная лавочка!» – можно услышать в северных губерниях, где одним хлебом со своей «неродимой» полосы не прокормишься, если не пойдешь в лес по грибы, по ягоды, по красного зверя, по рябца-тетерева, – часом с лукошком, а часом и с охотничьим припасом. О грибах, об ягодах сыпать присловьями горазды девки красные. «Стоит Егорка в красной ермолке; кто ни пройдет – всяк поклон отдает!» – ведут они речь про землянику-ягоду. Гриб в народном представлении является то стариком в колпаке – «на бору на юру», то «мальчиком с пальчик» («был балахон, шапка красенькая»). По иным местам ему (мальчику) имя дают: «Стоит Антошка на одной ножке; его ищут, а он нишкнет!», «Маленький Тимошка сквозь землю прошел, в колесе душу пронес, красну шапку нашел!..» и т. д.
Есть места на Святой Руси, где мужика не пахарем, а звероловом да птицеловом звать было бы правильнее: живет там он не сохой-Андреевной, а ружьем да силками, – кормится не полем, а лесом. У такого мужика и соха на свой лад налажена: «огнем пышет, полымем дышит» (ружье). «Летит птица орел, несет в зубах огонь; поперек хвоста – человечья («звериная» – по иному разносказу) смерть!», «Летит ворон, нос окован, где чкнет, руда пойдет!», «Черный кочет – рявкнуть хочет!», «Сухой Мартын – плюет через тын!», «Летит птица, во рту спица, на носу – смерть!» – перебивают одна другую загадки о ружье. «Птичка-невеличка, полем катится – ничего не боится!», «Летела тетеря вечером – не теперя, упала в лебеду и теперь не найду!», «За Костей пошлю гостя, не знай – Костя придет, а посол пропадет!» – говорится о пуле; «Летит птица крылата, без глаз, без крыл, сама свистит, сама бьет!» – о стреле, оружии, которое в наши дни отходит в область преданий везде, кроме только разве ближних соседей Крайнего Севера, обитателей тайги-тундры.
В стародавние годы лес считался священным местом у всех славянских народов. Быть может, и теперь в сокровенном уголке души суеверного русского человека, испытывающего благоговейное смущение при входе в лес, просыпается – еле внятным отголоском – пережиток язычества пращуров, признававших заповедные лесные места своими храмами. В священных рощах древнеязыческой Руси, над истоками текущих вод, совершались жертвоприношения воплощенным в природе богам. В этих рощах, под страхом незамолимого смертного греха, – запрещалось охотиться за зверьем и птицей, не позволялось рубить ни одного дерева. Здесь, под вековой сенью древес, благословлялись жрецами брачные союзы. В особо отведенных урочищах устраивались кладбища, где находили себе вечный покой завершившие свой томительный жизненный путь. Еще до сих пор в поволжских селах встречаются заброшенные лесные кладбища, говорящие своим видом о глубокой старине прохождения. О свадьбах-«самокрутках» ходит в народной Руси выражение: «венчались вкруг ракитова куста». В Симбирской губернии, верстах в шестидесяти – семидесяти от губернского города – там, где русские села как бы вкраплены узором в сплошные чувашские и мордовские деревни, – еще всего лет двадцать назад посреди полей можно было видеть уцелевшие от топора-истребителя и свято охранявшиеся населением старые одинокие дубы, позабытыми на поле битвы богатырями возвышавшиеся над равниною. Это – заповедные деревья, уцелевшие от истребленных священных рощ (по-чувашски – «кереметь»). Под ними время от времени устраивались мирские пирушки: кололся барашек, пенилась по чашкам-пивнушкам хмельная брага, лилось крепкое зелено вино, играла-выговаривала самодельная чувашская балалайка (все чуваши – прирожденные балалаечники), пелись песни, переносившие ко дням позабытой старины. У чуваш, год от года русеющих соседей великоросса, и у почти совсем обрусевшей и слившейся с ним – путем браков – трудолюбивой мордвы эти дубы и теперь считаются священными. Их обвешивают жертвенными полотенцами, к ним обращаются с молениями о дожде, перед ними дают обеты. Если же где под таким деревом догадливою благочестивой рукою поставлена часовенка или водружен деревянный крест да еще бежит-журчит ручеек-студенец, – то к такому месту принято ходить на богомолье. Чуваши, несмотря на всю свою кажущуюся заскорузлость, являются ревностными христианами и проявляют жажду света, выводя из своей среды через горнило симбирской центральной чувашской школы, основанной благодаря просветительной деятельности Ильминского, выдающихся поборников православия (учителей и священников), идущих на служение темному родному люду.
Дуб издавна считался на славянской земле священным деревом. Летописи свидетельствуют о том, как на славянском Западе проповедниками христианского учения вырубались заповедные рощи, чтобы воочию показать бессилие языческих богов перед светоносным могуществом единого Бога. Было это на Святой Руси – во времена Владимира Красна Солнышка и ближайших его преемников на великокняжеском столе. Но до сих пор напоминают о почитании дубовых рощ разбросанные по неоглядному светлорусскому простору рощицы-«жальники», превратившиеся в места отдыха утомленных зноем путников.
Дуб является олицетворением силы-мощи и в древности был посвящен могучему Перуну. «На святом окиян-море, – гласит заговорное народное слово, – стоит сырой Дуб крековистый (кряжистый?). И рубит тот дуб стар-матер мужик своим булатным топором. И как с того сырого дуба щепа летит, такожде бы и от меня (имярек) валился на сыру землю борец-молодец по всякой день, по всякой час!» Дошло до наших дней славянское предание о дубах, стоявших будто бы «еще до сотворения мира», когда-де не было ни земли, ни неба, а разливался по всей вселенной один «окиян-море». Стояли, по словам предания, посреди этого океана два дуба, на тех дубах сидело два голубя. Спустились эти голуби на морское дно, захватили клювами песку да камешков и принесли Творцу мира. Так-де и были созданы и земля, и небо. По другому преданию, существует железный («прьвопосаждень») дуб, на котором держатся вода, огонь и земля, а корень этого дуба стоит «на силе Божией». Растет-поднимается этот дуб до самых седьмых небес, а коренится в глубочайших недрах подземного царства.
Как домашний очаг отдается народным суеверием под защиту Домового, поля – под покровительство Полевика – «житного деда», воды – Водяного, так и над темными лесами властвует Лесовик, а в широкой степи живет Стеновой. О последнем все меньше да меньше преданий-сказаний остается в народной памяти, – вероятно, потому, что и самому степному простору становится все тесней на белом свете: распахивает его острый плуг, и с каждым годом быстрее. «Степовой – не Домовой, в подпечек не посадишь!» – говорят деревенские краснословы; «Степовому не поклонишься – и степь за темен лес покажется!», «Хорош хозяин у степи: ни сена не косит, ни пить-есть не просит!» Воплощение «степного хозяина» русский народ видит в крутящихся вихрях. Иногда он, по словам суеверного люда, «показывается»; и не к добру такое появление забываемого духа степей – родича-властителя «Стрибожьих внуков» (буйных ветров). Вздымаются, бегут по дорогам сивые вихри, сталкиваются друг с дружкой на перекрестках. И вот – из толпы их, в самой середине-воронке, поднимается и Стеновой: сивый, как вихрь, высокий старик с длинною пыльной бородою и развевающеюся во все стороны копною волос. Покажется, погрозит он старческою костлявой рукою и скроется. Беда тому путнику, который, не благословясь, выедет-выйдет из дому да в полдень попадет на перекресток, где крутится пыльная толчея вихрей: «Бывали случаи, что так и пропадали люди!» – гласит народное слово. «Ведьмы свадьбу с ведьмаками правят!» – приговаривает деревня, смотря на пляску вихрей, столбами проносящихся со степи вдоль по улицам, и торопливо загоняет ребятишек по избам.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа"
Книги похожие на "Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Аполлон Коринфский - Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа"
Отзывы читателей о книге "Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа", комментарии и мнения людей о произведении.