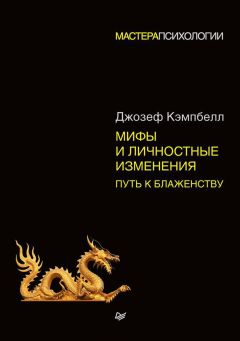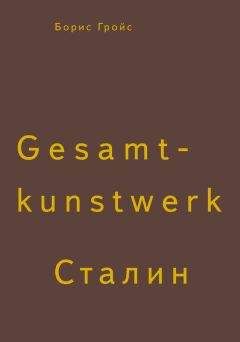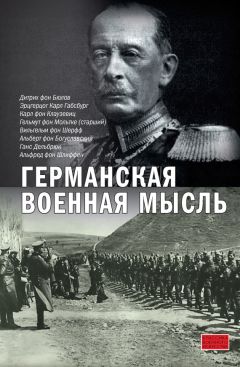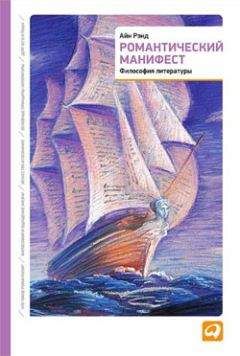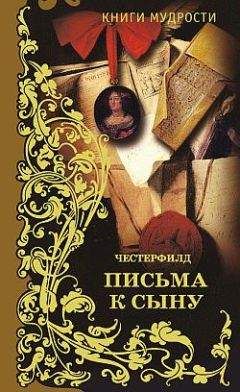Филипп Серс - Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного"
Описание и краткое содержание "Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного" читать бесплатно онлайн.
В основу книги известного французского философа и историка искусства Филиппа Серса «Тоталитаризм и авангард» (2001) легла серия семинаров в Международном философском коллеже (Париж). В своей работе Ф. Серс анализирует природу тоталитарных установок, опираясь на характеристики иудаизма и авангардного искусства, одинаково отвергавшихся тоталитаризмом. Автор показывает, что истинным устремлением исторического авангарда были не чисто формальные инновации, а установление связи личности с абсолютом и преобразование мира. В книге разбираются произведения таких мастеров искусства XX века как С. Эйзенштейн, К. Швиттерс, М. Дюшан, В. Кандинский, Г. Рихтер, М.Рэй.
Еврейский народ предстает также народом героики – но не в смысле отваги, отвечающей скорее греческой модели, а героики как диверсифицированной святости. Важнейшим вкладом иудаизма становится поистине революционный пересмотр Закона и радикальное обновление вопроса морали: языческая этика гармонии преобразуется в этику святости. В соотнесении с Законом Синая человек призван переживать не собственную конечность, а подобие Богу. Неизмеримость Бога интерпретируется в иудаизме не как пространственный феномен, но как глобальный проект. Именно в его рамках и определяется «святость» – принятие божественного подобия.
Святость также выявляет личностные различия, в свою очередь демонстрирующие один из аспектов божественности. Сама эпопея святости является плодом героики, обусловливающей радикальность личного опыта. Эта эпопея носит временной характер. Она разворачивается в рамках истории, где история – с одной стороны, место свершения личности, а с другой – место, где возможности божественного, представая в последовательном завершении, принимают свой истинный облик, и каждый из таких «слепков» либо сопровождает прогрессивное проявление божественности, или же составляет его сам. Этот процесс подтверждает функцию времени как источника различия – функцию, примером которой, как мы упоминали выше, выступает также рассказ о рассеивании строителей Вавилонской башни.
Понятие личности в иудаизме способствует диверсификации статичного проекта божественной мудрости. Человеческому, мирскому проекту личность придает героический характер, изобретая новую форму свершения обета. Личная святость вступает тем самым в диалог с божественным (одно из обличий которого помогает раскрыть этот диалог).
Ветхозаветные патриархи, пророки, великие святые становятся, соответственно, свидетелями этой божественности в одном из возможных проявлений божественной любви. Сама длинная череда этих «рыцарей веры» свидетельствует об их вере в бесконечную трансцендентность и о готовности откликнуться на обращенный к ним особый призыв – как это происходит с Авраамом и Иовом, двумя не-мыслителями (противопоставляющими личное откровение знанию), которые питают размышления Кьеркегора. Асессор Вильгельм, устами которого говорит Кьеркегор – от его лица написано «Гармоническое развитие в человеческой личности…», – доказывает в «Или – или», что зарождение индивида связано с утверждением своей независимости по отношению к родовому, всеобщему. Генезис личности подразумевает отказ от всеобщего и обращение к частному, поскольку «личность является абсолютом, Архимедовой точкой опоры, позволяющей перевернуть мир»2. В данном случае действие, в отличие от концепции Пиндара, носит внутренний характер: отвага героя Полиса оказывается здесь никчемной. Энергия такой личности – иного рода, она вся – в умении слушать и размышлять.
Анализ понятия святости в том виде, в каком оно встречается в иудаизме, позволяет нам прийти к теории оценки, поскольку зарождается она именно во внутренней, самопознавательной героике. Основы личной героики закладываются в строгости персонального суждения, позволяющего человеку причаститься божественной святости (в плане любви Бога к людям и миру), одновременно принимая вдохновение и случай – в чем нам предстоит убедиться ниже.
Оценка, или признание индивидом ценности и смысла, тождественна зарождению личности. На противоположном конце шкалы расположено возобладание всеобщего над ценностью. Такое подчинение проявляется, в частности, в тоталитаризме, где ценностная устремленность навязывается группе индивидов единственным распорядителем – сомнительным подражателем пиндарического поэта.
Единство врагов тоталитаризма
На чем основано это объединение еврейства, христианства и авангардной радикальности вокруг жертвы иудейского народа и его силы свидетельствования? Как еврейство может стать той отправной точкой модерности в искусстве, какой считает его гитлеровский тоталитаризм?
Первым понятием, которое привносит Библия, становится концепт апофазы. Эта безымянность и вне-образность еврейской традиции проходит через века. Образ Бога остается запретным и для христианства, принимающего лишь образ Христа, который почитается как воплощение Слова Божьего. Даже если фраза Иисуса, говорящего Филиппу: «Видевший меня видел Отца»3, позволяет считать закрепленное в традиции изображение лика Христа возможной репрезентацией Бога, само это изображение остается лишь первым приближением к проблеме. Истинный лик Иисуса также закрыт для описания – это лик, открывающийся на горе Фавор (горе Преображения) или после Воскресения, своего рода иконической границы: при первой встрече ученики – Мария Магдалина или Клеопа и Лука на пути в Эммаус – не узнают воскресшего Иисуса.
Граница образа является границей божественного света, который требует «духовного видения». Эта граница неукоснительно соблюдается в традиции византийско-славянской иконы, предлагающей, по сути, единственный – поскольку он основан на теологической строгости – канонический образ в христианстве. Граница представляет собой увиденное, однако увиденное (попробуем даже утверждать, различенное суждением) невозможно интерпретировать – его можно лишь отобразить. Так, в пророческом видении неизменно выдерживается граница галлюцинации: подкрепляющее ее постоянное различение основывается на строгости суждения пророка и связности раскрытия содержания.
В свою очередь, абстракция также предстает, с одной стороны, завершением процесса апофатической редукции, а с другой – возможным проявлением практики освобождения репрезентации внешних форм. Мы вернемся к этому ниже.
Таким образом, во всех этих трех случаях устанавливается дистанция по отношению к образу. Для еврейства, как и для христианства или абстрактной революции – средоточия радикальности авангарда, – образ предстает порогом, за которым открывается иная реальность. Отношение к образу, соответственно, подразумевает удаленность, поскольку она одна делает возможной такую связь с трансцендентным.
Близость иудейского свидетельствования и христианства (или авангардной радикальности) выражается также в ценностном выделении опыта.
Назидательные книги иудейской традиции (Книга Иова, Премудрости и пр., но также Книги Товита, Юдифи, Есфири и даже Бытия) устанавливают особый статус опыта как настоящей монотеистической «одержимости», противопоставленной (бесстрастной) мудрости язычников. То же ценностное выделение мы находим и в речи Иисуса, особенно в его иносказательных изречениях. Оно утверждает преемственность между материей и духом.
Авангард доводит эту традицию до ее завершения, придавая ей при помощи понятия внутреннего опыта эвристически-практическую функцию в личном художественном творчестве. Она же служит для исследования сновидений, пограничных состояний или подсознания.
Третий аспект, на котором я бы хотел остановиться, можно было бы обозначить как «провокация смысла».
В иудейской традиции мы часто встречаемся с пророческим запросом: пророк требует справедливости у Божьего суда, в определенном смысле вынуждая его ответить. Например, Ионафан, обращаясь к своему оруженосцу, называет знак, который должен подтвердить ему Божью волю4, или Гедеон проводит своего рода «перекрестную проверку» шерстью и росой5. Провидец требует знамения – проявления трансцендентности, доступного контролю и верификации. Эта позиция, разумеется, получает свое продолжение в христианстве.
Однако отклики ее мы найдем и в радикальности авангарда. Провокация смысла осуществляется прежде всего за счет абстракции. Так, у Кандинского ил и Малевича высвободить этот внезапный выброс означаемого призван фигуративный вакуум. По принципу внутренней необходимости освобождение живописи от фигуративного императива должно открыть путь неожиданному, более радикальному присутствию – однако присутствию не внешней формы, а того, что таится за видимостью феноменов.
Дадаизм особенно часто прибегает к эквивалентам такого пророческого запроса, используя случай и систематическое обращение к «подсознательному». Можно даже сказать, что у Дада случай выступает методическим вызовом трансцендентности.
Еврейство лежит у истоков того движения, которое позволяет человечеству ускользнуть от племенной6 участи и насилия. Защитой еврейского народа является в большей степени его вера в Бога, нежели сила оружия. От «остальных народов» его отличает статус пророка, который подкрепляется (удостоверяемым) присутствием божества: так, пророк Даниил, брошенный львам, демонстрирует царю Дарию действенность покровительства монотеистического Бога7.
Вкладом иудейской традиции становится также создание нового регистра существования – мира личности. Различие, разнообразие становится практической демонстрацией свободы. Это подразумевает некоторую девальвацию обыденных поступков человека с их претензией на «основополагающую» и объединяющую роль. Каждый индивид в конечном счете поддерживает глубоко личную и уникальную связь с трансцендентностью.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного"
Книги похожие на "Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Филипп Серс - Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного"
Отзывы читателей о книге "Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного", комментарии и мнения людей о произведении.