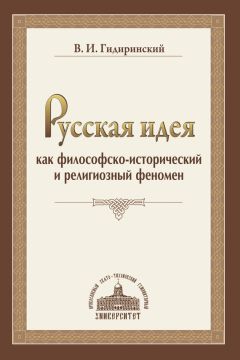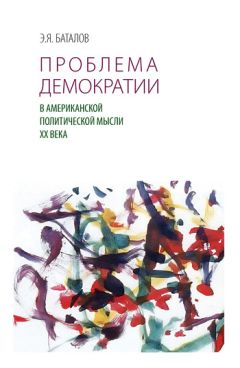Эдуард Баталов - Русская идея и американская мечта
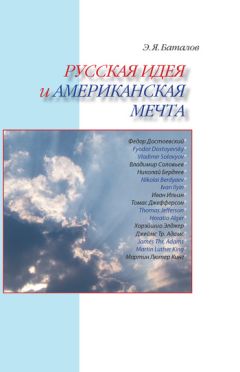
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русская идея и американская мечта"
Описание и краткое содержание "Русская идея и американская мечта" читать бесплатно онлайн.
Монография Батанова Э.Я. «Русская идея и американская мечта» – первое в отечественной и зарубежной научной литературе комплексное сравнительное исследование «Русской идеи» и «Американской мечты» как двух великих национальных мифов, оказавших и продолжающих оказывать большое, хотя и не всегда осознаваемое нами, влияние на сознание и самосознание, соответственно, россиян и американцев. Автор книги опирается на документы, научные исследования, публицистику, художественные произведения многих авторов, включая Федора Достоевского (автора термина «русская идея»), Владимира Соловьева, Николая Бердяева, Василия Розанова, Джеймса Труслоу Адамса (автора термина «американская мечта»), Хорейшо Элджера и др. Прослеживая историю русской идеи и американской мечты, автор затрагивает вопрос об их роли в жизни современных России и Америки и возможных перспективах эволюции.
Книга представляет интерес для культурологов, философов, историков, всех, кто интересуется историей и культурой двух великих стран.
Конечно, и историки, и политологи, и исследователи общественного мнения, такие, как Гэллап или Харрис, и многие другие деятели культуры, торговли и т. п. участвуют в создании мифологического пантеона во всех его ипостасях: политической, исторической и др. Профессиональный идеолог или коммуникатор способен внести существенный вклад в формирование и распространение мифа, в усиление его влияния на общественную жизнь. Но не только они формируют и распространяют мифы. Миф – продукт массового, народного творчества, «хоровой» продукт. Так было и есть в Америке. Так было и есть в России. Так было и есть везде.
Кто, в самом деле, создавал ту же Русскую идею: Достоевский, Вл. Соловьев, Бердяев, Ильин? Да, и они тоже. Но можно назвать еще десятки, а если взять второй эшелон, то сотни писателей, публицистов, священников, деятелей культуры, которые внесли более или менее оригинальный, более или менее весомый вклад в создание этого мифа. Но и они стояли на чьих-то плечах. Было еще великое множество людей – летописцев, монахов, сказителей, военачальников, странников, политиков, досужих мечтателей, художников, путешественников, а в более поздние времена – журналистов, университетских профессоров, ученых и т. п. – русских и иностранцев, глубоких и поверхностных, знатных и незнатных, которые, то подхватывая и разнося по миру услышанное ими дома и за границей, то придумывая что-то свое, лепили из года в год, из века в век общенациональный миф – Русскую идею, растворявшуюся в общественном сознании и усваиваемую им. А за всем этим стоял уникальный (он у всех народов уникален) национальный опыт, уникальная история пребывания русского (российского) народа в этом мире.
Так же обстоит дело и с Американской мечтой. Мы знаем, кто дал имя этому мифу. Но знаем и то, что присвоение имени (как и в случае с Русской идеей) произошло уже после того, как этот миф обрел свою сущность и явился на свет. И творцов у этого мифа было еще больше, чем у Русской идеи, ибо едва ли не каждый иммигрант, направлявшийся в Соединенные Штаты, был его «соавтором».
Идея, Мечта, Утопия
Характеристика Русской идеи и Американской мечты как социальных мифов была бы, однако, неполной, если бы мы не сказали об одном существенном, вскользь уже упомянутом, внутреннем измерении, присущем обоим этим мифам. Речь идет об утопическом измерении, без учета которого не может быть понята ни та роль, которую Идея и Мечта играли и продолжают играть в своих обществах, ни их поразительная живучесть.
Понятие утопии относится к числу тех конструкций сознания, которые, по словам одного из крупнейших русских философов XX в. А.Ф. Лосева, «обычно считаются общепонятными и которые без всяких усилий обычно переводятся на всякий другой язык, оставаясь повсюду одним и тем же словом»70, но в действительности оказываются в числе «самых туманных, сбивчивых и противоречивых понятий»71.
Томас Мор, назвав свое великое произведение «золотой книжечкой о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», затерянном в океанских просторах, казалось бы, исключил возможность последующих разнотолков: Утопия – это вымышленная страна, воображаемое общество, которому отдается предпочтение перед обществом реальным и в образе которого воплощается с большей или меньшей полнотой представление о совершенном обществе и человеке, о социальном идеале72. Однако за долгие годы своего существования понятие утопии обросло множеством новых значений и толкований, и процесс этот нельзя считать завершенным.
Умножение и разброс значений некоторых ключевых понятий культуры – явление не только распространенное, но и неизбежное, поскольку темпы накопления человечеством социального (в широком смысле этого слова) опыта и потребность в его осмыслении и интерпретации далеко обгоняют экстенсивный рост понятийного аппарата, находящегося в распоряжении человечества. В итоге новый опыт нередко идентифицируется и интерпретируется с помощью старых понятий, в результате чего последние сами начинают постепенно трансформироваться и приобретать неожиданные и странные на первый взгляд значения.
Подобная участь постигла и понятие утопии. В обыденном сознании она, правда, однозначно отождествляется с чем-то нереальным, неосуществимым. Именно так характеризует утопию, например, хорошо известный у нас в стране Словарь русского языка С.И. Ожегова: «Несбыточная, неосуществимая мечта»73. Такое же толкование утопии дают словари английского, французского и других языков, фиксирующие массовое представление об утопии.
Однако для философов, историков, политологов, культурологов, обращающихся к исследованию утопии, вопрос о значениях этого понятия остается открытым. Как замечает в этой связи Дж. Кейтеб, автор статьи «Утопия и утопизм», помещенной в американской Философской энциклопедии, «слова “утопия” и “утопический”…приобрели множество значений, выходящих за пределы того, которое было предложено книгой Мора. Общим для всех случаев является указание либо на воображаемое, либо на идеальное, либо одновременно на то и другое… Но иногда, – продолжает Кейтеб, – эти слова («утопия» и «утопический». – Э.Б.) используются для выражения насмешки или с такой долей неопределенности, которая лишает их всякой подлинной полезности. Например, заумная или неправдоподобная идея часто клеймится как «утопическая» независимо от того, заключено в ней какое-либо идеалистическое содержание или нет. Близко к этой стоит и трактовка «утопического как обозначающего все то, что недопустимо отличается от привычного или радикально по своим требованиям»74.
Сам Кейтеб полагает, что понятие утопии должно быть зарезервировано для обозначения «размышлений… об идеальных обществах и идеальном образе жизни, направленных на достижение совершенства, определяемого в соответствии с общими предрасположениями, а не личными пристрастиями. При этом совершенство понималось бы как гармония каждого человека с самим собой и с окружающими его людьми»75.
Основная причина разнобоя в толковании понятия утопии заключается в том, что оно ведется с разных позиций и на основе разных методологий. Одни исследователи сосредоточивают внимание на генетических особенностях утопии и выводят сущность последней из ее происхождения. Другие (они составляют большинство) определяют утопию, исходя из ее функций, которые опять-таки трактуются далеко не однозначно. Третьи истолковывают утопию, основываясь на ее структурных особенностях и формальных признаках. И т. п.
На мой взгляд76, при исследовании сущности утопии и определении значений понятия утопии следует исходить из способа продуцирования тех исторически сформировавшихся конструкций сознания, которые на уровне рациональной интуиции воспринимаются (и фиксируются культурной традицией) как утопические. Иначе говоря, только через сравнительный анализ способа продуцирования сознанием идеальных проектов общества и человека, содержащихся в таких произведениях, как «Государство» Платона, «Утопия» Томаса Мора, «Город солнца» Томазо Кампанеллы, «Путешествие в Икарию» Этьена Кабе, «Взгляд назад» Эдварда Беллами и множестве других сочинений того же ряда, плюс трактатах мыслителей (среди которых обычно выделяют Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но имя коим – легион), посвященных устройству наилучшего общества, а также других произведений, принадлежность которых к утопическому кругу представляется очевидной, – только таким образом можно раскрыть сущность утопии как феномена сознания, обладающего определенными структурными и функциональными характеристиками. А в итоге дать корректную интерпретацию понятия утопии.
Будучи целенаправленной и предметной, человеческая деятельность – материальная и духовная – есть деятельность, направленная на достижение идеала, формируемого сознанием субъекта. Но идеал, в соответствии с которым строится и на достижение которого направляется эта деятельность, может полагаться различными способами – обстоятельство, имеющее первостепенное значение для понимания природы и сущности утопии. История общественной мысли и социально-политической практики позволяет абстрагировать два полярных способа полагания идеала, находящих отражение в соответствующих им типах сознания и порождаемых последними продуктах мыслительной деятельности.
В одном случае идеал полагается в соответствии с объективными законами и тенденциями (как их представляет себе мыслящий субъект), действующими в данной сфере бытия. Он выводится не из головы (хотя и при помощи головы), а из объективной реальности и отражает формирующие ее необходимые связи и отношения. Это, конечно, не означает, что стремление субъекта, конструирующего идеал, к научности, объективности будет адекватным образом воплощено в жизнь. Полярные способы полагания идеала – абстракции, не существующие в реальности в чистом виде. Маркс и Энгельс, как известно, отвергали так называемый утопический социализм и говорили – и, по-видимому, искренно – о своем стремлении построить теорию научного социализма. Однако решить эту задачу в полной мере им так и не удалось77. И тем не менее в своих попытках построить социалистический идеал они стремились придерживаться объективистской ориентации.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русская идея и американская мечта"
Книги похожие на "Русская идея и американская мечта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эдуард Баталов - Русская идея и американская мечта"
Отзывы читателей о книге "Русская идея и американская мечта", комментарии и мнения людей о произведении.