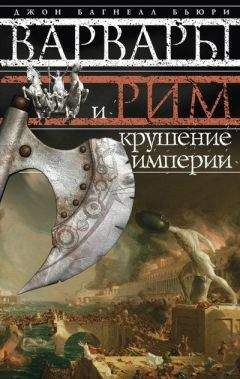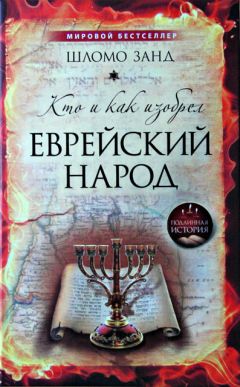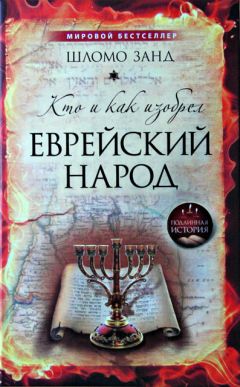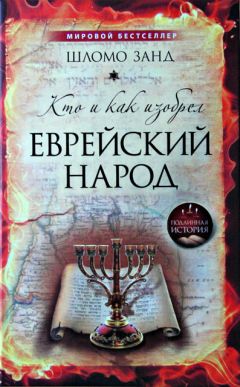Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.
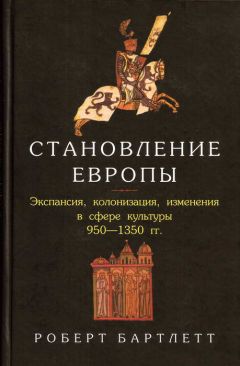
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Описание и краткое содержание "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг." читать бесплатно онлайн.
Роберт Бартлетт — профессор-медиевист в Университете Сент-Эндрю. До 1992 года был профессором истории средних веков Чикагского университета, а ранее преподавал в Эдинбургском университете. Он получал образование в университетах Кембриджа, Оксфорда и Принстона, занимался исследовательской работой в Мичиганском университете, научных центрах Принстонского университета — Институте углубленных исследований и Центре Шелби Каллом Дэвис, а также в Геттингенском университете. Среди более ранних публикаций — труды Gerald of Wales, 1146-1223: Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal; Medieval Frontier Societies (в качестве соредактора).
Профессор Бартлетт женат, имеет двух детей.
Книга «Становление Европы» в 1993 году удостоена Вульфсоновской премии по истории.
Лингвистическая пестрота пограничных областей нашла отражение и в практике наречения. Процесс взаимовлияния означал, что к XIV веку крестьянин-славянин мог носить имя Бернара или Ричарда, английские переселенцы в Ирландии — ирландские имена, а потомок правителей валлийских горных племен мог скрываться под именем какого-нибудь сэра Томаса де Авена. Еще более наглядным свидетельством языкового и культурного плюрализма приграничных областей являлась практика биноминализма, то есть параллельного существования двух имен{672}. Так, в X веке в дружине Отгона II в походе на Кап-Колон был «рыцарь по имени Генрих, называемый также на языке славян Золутна»{673}. Немецкие и славянские имена одновременно носили несколько славянских князей XII и XIII веков, в частности, правитель Богемии Пржемысл Отгокар I, Пржемысл Отгокар II и Генрих Владислав Моравский. У Пржемысла Огтокара II даже были две печати — одна для использования в областях, говоривших по-чешски, и на ней стояло имя Пржемысл, а другая — для немецких земель, с именем Отгокар{674}. Среди мосарабов Толедо получили распространение двойные романо-арабские имена. «Именем Господа, — начинался один документ 1115 года, — я, Доминико Петрис, называемый так на латинском языке (in latinitate), а по-арабски — Абельфакам Абенбако; а также я, Доминикис, как называюсь я по-романски, и Абельфакам Абенцелема по-арабски…»{675}.
Было бы наивно рисовать культурную ситуацию в приграничных районах только с позиций плюрализма, несхожести или смешения. Разные языки имели неодинаковый статус. Одни были более престижны, в силу политического или экономического превосходства тех, кто на них говорил. Понятно, в частности, что все более широкое распространение получали романо-германские языки, носители которых осуществляли активную экспансию и отвоевывали все новые территории, тогда как кельтские, славянские, балтийские и арабские языки и наречия постепенно отступали. Этот характерный для Средневековья процесс непрестанно отражался на лингвистической карте Европы. Языковая экспансия имела отчетливый колониальный оттенок: немецкий язык в Ливонии или французский в Сирии были языками завоевателей, что само по себе могло ставить в привилегированное положение тех, кто ими владел. Однако процесс этот протекал непросто. Местные наречия оказывали сопротивление и могли возрождаться. Языковые изменения не были односторонним процессом, и противостояние языков имело подчас самые разные последствия.
Новый всплеск национализма на почве языка или роста политизированного языкового самосознания имел место в Позднем Средневековье. Показателем появившегося в тот период отождествления понятий «язык» и «народ» может служить частое употребление первого из этих двух слов в таком контекте, где оно явно обозначает второе{676}. Западнославянское слово «язык» (jazyk) одновременно означало и язык, и народ и когда чешский автор-националист XIV века Далимил использует термин jazyk cesky, не всегда можно установить, какое из двух значений в данном конкретном случае превалирует{677}. В немецком переводе труда Далимила использовано слово zung, то есть «язык», и характерно, что оно тоже имеет эти два значения. Похожим образом валлийское слово iaith со значением «язык» применялось в то время в гораздо более широком смысле, нежели только лингвистическом{678}. Показательно, что валлийское обозначение «тех, кто не говорит по-валлийски»{679}, фактически было синонимом слову «чужак». Такую же полисемию имеет слово lingua в латинских документах. Поэтому, когда граждане Корка пишут о Hybemica lingua как о врагах короля, то речь просто-напросто идет об «ирландском народе»{680}. Госпитальеры в Леванте делились на группы, называемые tongues («языки») в соответствии со своим происхождением, то есть тем западноевропейским языком, который был для них родным{681}. Во всех приведенных примерах полисемия говорит об одном явлении принципиального значения: грань между этнической и языковой принадлежностью все больше размывалась.
Осознание своей принадлежности к определенному языковому сообществу могло стать основанием не только для дружеского расположения, но и для политических претензий. Когда в 1278 году Пржемысл Оттокар II Богемский обратился к полякам за поддержкой в момент кризиса власти, он (а точнее, его нотарий-итальянец) апеллировал к родству чехов и поляков, мотивируя территориальной близостью, узами крови и тем, что «польская нация родственна нам по языку»{682}. Аналогичное языковое родство еще раз послужило политическим целям в 1300 году, когда преемник Оттокара Венцеслав II получил предложение занять польский престол. Польские посланники заявили: «У нас и у чехов будет один король, и мы будем жить в мире по общему закону. Ибо справедливо, когда те, кто говорят на похожем языке, живут под властью одного государя»{683}. Польские притязания на Померелию, вспыхнувшие в знак сопротивления Тевтонским рыцарям, подкреплялись тем аргументом, что «в Польше и в Померелии один и тот же язык, и все, кто там постоянно живут, говорят по-польски»{684}. Приблизительно в то же время, в 1315–1318 годах, только в тысяче миль на запад, вторжение Роберта Брюса в Ирландию также мотивировалось, в частности, языковым родством. Планируя свой поход, король Роберт написал ирландцам письмо, начинавшееся словами: «Поелику и мы и вы, и наш, и ваш народ с древних времен живем свободно, имеем общие национальные корни, то наш общий язык и общие нравы побуждают нас к объединению в радости и дружбе…»{685}. В оправдание своего признания Эдуарда Брюса королем в грамоте 1317–1318 года Донал О'Нил сообщал папе Иоанну XXII, что «короли малой Скоттии [Шотландии] все ведут происхождение от нашей большой Скоттии [Ирландии] и сохраняют до некоторой степени наш язык и нравы»{686}.
Противовесом этих агрессивных притязаний, в пропагандистских целях использовавших аргумент языкового родства, стали распространенные в Позднем Средневековье утверждения, что враг вознамерился уничтожить национальный язык. Такого рода обвинения звучали не только на границах католической Европы. В 1295 году, когда Эдуард I Английский пытался заручиться поддержкой в своей борьбе с Филиппом IV Французским, он обвинил французского монарха в том, что тот намеревается вторгнуться в Англию и «стереть с лица земли английский язык»{687}. Эти обвинения, однако, в большой степени походили на слухи, которые были совершенно естественны для приграничного, этнически неоднородного государства. Если верить одному польскому хронисту, Тевтонские рыцари намеревались «истребить польский язык» (ydyoma Polonicum){688}. И такого рода обвинения не были плодом больного воображения, ибо попытки насильственного насаждения языка имели место. Помимо правил, регламентирующих употребление того или иного языка в судопроизводстве (о чем речь пойдет ниже), предпринимались и другие попытки общего характера, направленные на упорядочение лингвистической практики. Например, в 1495 году епископ Вроцлавский Иоанн IV распорядился, чтобы жители его деревни Войчице (Woitz) за пять лет овладели немецким языком под угрозой выселения{689}. Более систематический и настойчивый характер носили правила, которые насаждали в отношении ирландского языка колониальные английские власти и переселенцы. С одной стороны, они неоднократно в законодательном порядке запрещали эмигрантам использовать местный язык. «Мы повелеваем, — сказано в одном эдикте Эдуарда III от 1359–1360 года, — чтобы ни один человек английского происхождения не должен был говорить с другим англичанином на ирландском языке»{690}. Зато делались попытки обратного свойства — насаждения среди местного населения английского языка. В 80-е годы XIV века английские эмиссары пытались побудить папу римского издать распоряжение в адрес прелатов Ирландии, предписывающее им «заставить своих подданых изучать английский язык»{691}. Попытки насаждения этих порядков действительно предпринимались. В Уотерфорде некий Вильям Пауэр в 1371 году был заключен в тюрьму «за то, что он не говорит по-английски», и выпущен только после того, как нашел поручителей, что он этот язык выучит{692}. В XV веке в том же городе подмастерья получали городские свободы только в том случае, если они были «англичане по происхождению, нравам и языку»{693}. Однако такие ограничения были редки и, как нетрудно предположить, малоэффективны. Законодательное регулирование в сфере культуры, даже в современном государстве, неизбежно встречает сильный отпор. В условиях Средневековья, скорее всего, насильно сделать это было бы невозможно. Безусловно, определенные изменения в сфере языка происходили, но они становились следствием массовой миграции населения и культурной адаптации, но не административных предписаний.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Книги похожие на "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Отзывы читателей о книге "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.