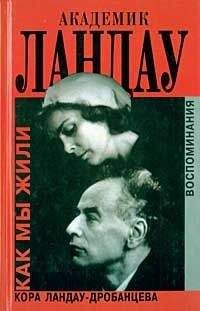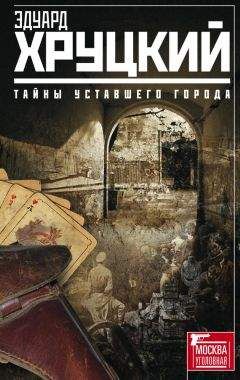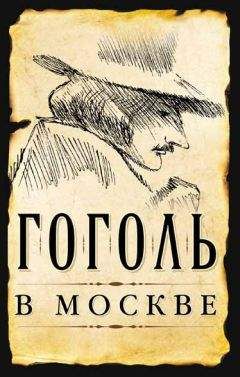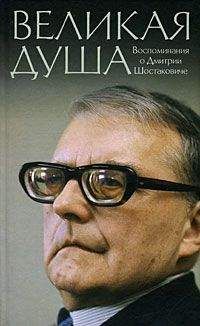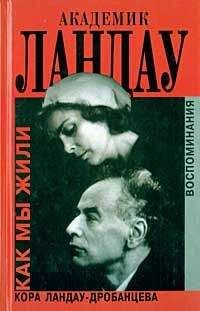Лев Копелев - Мы жили в Москве

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мы жили в Москве"
Описание и краткое содержание "Мы жили в Москве" читать бесплатно онлайн.
Никаких извещений не было, кроме маленьких, от руки написанных объявлений на Киевском вокзале. Однако 2 июня больше двух тысяч человек пришли проститься с поэтом. Попытки чиновников из Литфонда навести свой порядок — везти гроб на автобусе — были тщетными. Сыновья, друзья, читатели, сменяясь, несли гроб до могилы на холме у трех сосен, на которые он смотрел из окна своей рабочей комнаты.
Речь над могилой произнес Валентин Асмус, философ, давний друг Пастернака. Он говорил о великом поэте, говорил так, словно не было двух лет травли, проклятий в газетах, на собраниях, исключения из Союза писателей…
И мы тогда ощутили: величие этой жизни, этой поэзии несоизмеримо выше той низменной возни его гонителей, которая отравила последние годы его жизни и, вероятно, ускорила его смерть.
Юноши и девушки до глубокой ночи читали у могилы стихи Пастернака. Читали «О, если б знал, что так бывает…», «Гамлет», «Август».
То был скорбный день. И в то же время — это множество разных людей у дома поэта, у его могилы; знакомые лица и гораздо больше незнакомых… И мы чувствовали: нас всех связывает едва сознаваемое содружество, братство. Мы все в этот день были причастны к бессмертной поэзии, и минутами вдруг казалось, что связи между людьми — не только на этот день, что связывает нас не только скорбь, не только любовь к поэту.
Год спустя вышла маленькая книга стихов Пастернака. Но роман «Доктор Живаго» не был издан и четверть века спустя.
А зарубежные издания и романа и стихов все эти годы изымают при обысках.
Р. Тогда и впрямь была пора посевов, завязей, первых ростков. Освобождающееся слово звучало уже не только в кругу наших близких. Оно вырывалось из квартир на трибуны. По тогдашним газетам и журналам нельзя судить о накале страстей, об особой атмосфере того времени, о многообразии порывов к правде, к свободе.
История хрущевского семилетия (1957–1964) напоминает температурную кривую малярийного больного.
Но все же, вопреки то и дело прихватывающим заморозкам, миллионы заключенных возвратились из тюрем и лагерей. Еще недавно запрещенные книги вернулись в библиотеки, в издательские планы. Запретные полотна переносились из запасников на стены галерей и музеев. О запретных науках генетике, кибернетике, теории резонанса — велись открытые дискуссии, читались лекции.
Почти все эти вольности, поблажки, послабления приходили сверху. И мы долго — сейчас видно, что непростительно долго, — ждали новых поблажек, ждали новых указов о свободах.
Еще в 1974 году, уйдя с разрешенной на несколько часов выставки художников-нонконформистов, я записала в дневник: «Что будет теперь? Запретят окончательно или разрешат еще раз?»
Приходилось долго пробиваться к простой мысли: свободу не получают ни в подарок, ни как трофей, а находят прежде всего в себе, в своей душе, воспитывают свободными себя, своих.
Этот путь, и доныне незавершенный, начинался в ту пору нашей короткой весны.
3. ВПЕРЕД, К ПРОШЛОМУ!
Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет…
Анна АхматоваВ феврале 1955 года в Литературном музее праздновали 65-летие Ильи Эренбурга.
Мы слушали речи, приветственные письма и телеграммы. Назым Хикмет и Сергей Образцов говорили об Эренбурге как о хранителе духа настоящего революционного искусства, Александр Бек сказал, что Эренбург уберег эти традиции в то время, как «всех нас давил культ личности». Мы в тот вечер впервые услышали это словосочетание, произнесенное с трибуны.
Вся атмосфера маленького, тесного зала, шумно, радостно откликавшегося на вольные речи, нам казалась возрождением того прошлого, о котором так восторженно говорили сразу полюбившиеся нам ораторы.
И в последующие годы воспоминания Константина Паустовского, Ильи Эренбурга и многих других литераторов, художников, артистов, для которых двадцатые годы были порою их молодости, их молодых надежд, создавали радужные панорамы времени и светлые краски оттесняли тени. В книге Эренбурга многие впервые прочитали строки Цветаевой и Мандельштама, впервые узнали о Модильяни, о Марке.
Возвращались стихи Ахматовой и Есенина, «Клоп» и «Баня» Маяковского, «Мандат» Эрдмана, картины Петрова-Водкина и Фалька, раскрывались тайники спецхранов в библиотеках, запасники в музеях…
Все это после многих лет крикливого, самодовольного невежества ошеломляло, радовало и убеждало: двадцатые годы и впрямь были золотым веком.
Р. На трибуне партийного собрания 26 марта 1956 года стоял Иван Сергеевич Макарьев. Высокий, худой, истощенный, с удлиненным скелетно-голым черепом, он говорил глуховато-низким голосом: «Зимой тридцать седьмого года к нам в лагерь пришли два эшелона, больше четырех тысяч арестантов. Я увидел множество знакомых лиц, были и делегаты XVII съезда…
…Культ нельзя рассматривать как некое количество фактов, касающееся только лично Сталина. Культ — это уже отрицание ленинизма. Надо высмеивать, вытравливать культ…»
Ему рукоплескали больше, чем всем. Вот он, настоящий большевик: прошел сквозь ад тюрем и лагерей, все выдержал, сохранил душевные силы, сохранил веру в наши идеалы.
Он говорил уверенно, он знал причины прошлых бед и знал, что надо делать: вернуться к «чистоте двадцатых годов».
«Необходимо восстановить атмосферу первых лет советской власти, простоту отношений, доступность руководства… Вернуться к настоящей внутрипартийной демократии, к неподдельным рабоче-крестьянским Советам, вернуться к тому, что было провозглашено в октябре 1917 года. Вначале этого нельзя было осуществить из-за гражданской войны, из-за голода, а потом помешала внутрипартийная борьба. Перерождение аппарата превратило демократический централизм в бюрократический, породило сталинский культ, беззаконие, насилие, террор».
Мы познакомились с ним, когда он пришел в редакцию «Иностранной литературы» к своему другу Николаю Стальскому, тоже недавно реабилитированному. Они оба в двадцатые годы работали в Ростове, были приятелями Фадеева.
Макарьев рассказывал, как Фадеев пригласил его на дачу.
— Он передо мной вроде как оправдывался. Когда-то был настоящим большевиком. Что потом стало, каким он сделался, — не знаю, не понимаю. Посмотрел на его дачу, спросил: «Саша, а зачем тебе этот дворец?» Он насупился, а потом сказал: «Отдам под детский сад».
В день самоубийства Фадеева 13 мая 1956 года мы встретили на улице Макарьева, он был бледнее обычного. Ему было необходимо говорить, говорить… Он зазвал нас к себе и до ночи рассказывал о Фадееве, об их общей молодости.
«Сообщение в газете о причинах смерти — чистое вранье. Фадеев полгода уже совсем не пил. С ним что-то произошло после съезда. В последние дни он ходил по старым друзьям, накануне был у Либединского. Неужели и у него руки в крови? Но если и так, то теперь он смыл ее своей кровью».
Макарьев стал часто приходить к нам, иногда хмельным, иногда выпивал у нас, быстро хмелел и тогда уже не мог замолчать. В любом обществе он говорил больше всех, либо читал вслух стихи и прозу. Однажды у нас заполночь читал рассказы Хемингуэя. Охотно вспоминал о РАППе,[4] о Горьком, он состоял при нем последние годы. Реже всего вспоминал о лагере. Ему необходимы были слушатели, внимательные, восхищенные. На первых порах их было много.
— Помните сталинскую резолюцию на сказке Горького «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гете. Любовь побеждает смерть». Он это моим карандашом написал. Сидели тогда у Горького, он, Ворошилов, еще кто-то. Сталин начал вслух читать «Девушку и смерть». Горький морщился, отмахивался, мол, глупость, юношеское баловство. А Сталин все цокал от восхищения. Все выпили здорово тогда. Горький, пожалуй, один был трезвым. Сталин ко мне: «Давай карандаш». И наложил резолюцию, «любов» — без мягкого знака написал. Потом Ворошилову подсунул: «пиши». Тот развел тягомотину. Горький был очень недоволен. Последствиями этой пьяной резолюции были статьи, книги, диссертации. Мариэтта Шагинян, бывшая приятельница Андрея Белого, Мережковских, утверждала, что пересмотрела свои суждения о Гете, сложившиеся за десятилетия, «в свете гениального определения товарища Сталина».
У Макарьева глубокий шрам на правой кисти.
— Это сквозное, пулевое. Когда в сорок втором немецкий крейсер вошел в Северное море, в нашем лагере бандиты, ворье пытались поднять восстание. Разоружили часть охраны. Мы, заключенные-коммунисты, дали им отпор. Я схватился с одним, тот выстрелил, я только ожог почувствовал. Но все же вырвал винтовку. Мы сами их скрутили, охранники потом опомнились. Меня представили к медали. Но вместо этого только сократили срок на один год. А потом все равно — ссылка.
Он дружил с Ольгой Берггольц, которую знал с дотюремных времен. Она посвятила ему стихотворение.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мы жили в Москве"
Книги похожие на "Мы жили в Москве" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Копелев - Мы жили в Москве"
Отзывы читателей о книге "Мы жили в Москве", комментарии и мнения людей о произведении.