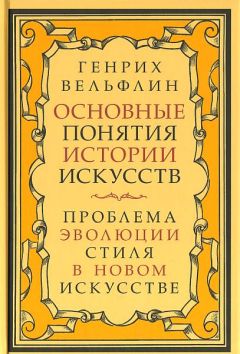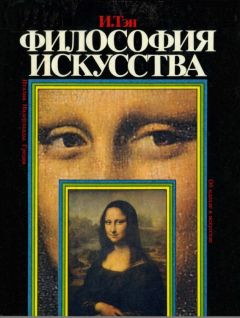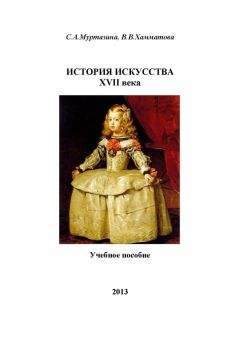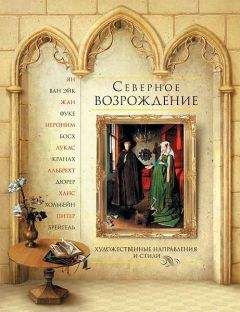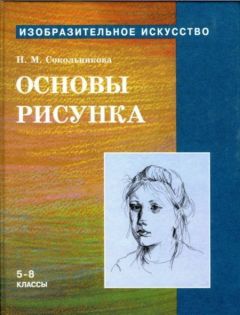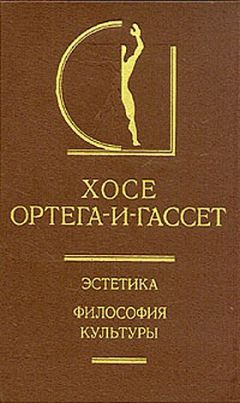Генрих Вёльфлин - Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение"
Описание и краткое содержание "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение" читать бесплатно онлайн.
Генрих Вёльфлин по праву считается одним из самых известных и авторитетных историков искусства, основоположником формально-стилистического метода в искусствознании, успешно применяемом в настоящее время. Его капитальный труд «Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение» впервые был издан в Мюнхене в 1899 году, выдержал много переизданий и переведен на все европейские языки. Первый перевод на русский язык был выполнен в 1912 году. Предлагаемый новый перевод более соответствует немецкому оригиналу и состоянию современной искусствоведческой науки. Текст сопровожден почти 200 репродукциями живописных и скульптурных произведений искусства, упоминаемых автором.
Книга адресуется всем читателям, желающим глубже понять особенности творчества великих мастеров итальянского Возрождения, а также студентам и преподавателям искусствоведческих отделений вузов.
Издание дополненное Айрис-Пресс.
В оформлении книги использованы репродукции произведений Рафаэля Санти: «Донна Велата», «Чудесный улов», «Паси овец моих».
Рафаэль изобразил немного фигур, однако все они — типы величайших ужаса и изумления, как их бессчетное число раз повторяло искусство последующих столетий. Они стали академическим общим местом выражения. Бесконечно много несуразицы возникло в результате переноса этого итальянского языка жестов на северную почву. Да и сами итальянцы на какое-то время утратили чувство естественного выражения и впали в конструирование. Как иноземцы, мы воздержимся от суждения о том, в какой мере изображенные здесь движения все еще естественны. Кое-что сказать все-таки следует: тут можно с особой отчетливостью различить, как характерное лицо уступает место лицу выразительному. Интерес к выражению страстных душевных движений был настолько велик, что от характерных лиц с удовольствием отказались.
«Ослепление Элимы» (рис. 73 {19}). Чародея Элиму, выступившего против апостола Павла в присутствии проконсула Кипра, внезапно поражает слепота. Христианский святой, одерживающий верх над своим оппонентом перед лицом языческого правителя — сюжет давний, и поэтому схема композиции, использованная Рафаэлем, аналогична той, которая была известна Джотто, писавшему в Санта Кроче св. Франциска в сцене с мусульманскими священниками перед султаном. Проконсул посередине, а перед ним, налево и направо друг против друга — противоборствующие стороны, как у Джотто, разве что отдельные моменты даны здесь с большей напряженностью. Элима выдвинулся вперед до середины и теперь, поскольку глаза ему застлала тьма, внезапно отшатывается, вытянув обе руки вперед и высоко задирая голову — непревзойденный образ человека, вдруг утратившего зрение. Стоящий с самого края Павел — его фигура дана сзади в три четверти — совершенно спокоен. Его лицо в тени (в то время как на Элиму падает спереди свет) и изображено в неполный профиль. Он говорит, сопровождая слова жестом — вытянутой в сторону Элимы рукой. Этот его жест также не отличается страстностью, однако упрощенность горизонтали, которая встречается с мощной вертикалью спокойно выпрямленной фигуры, производит очень убедительное действие. Вот скала, о которую разбивается зло. Рядом с основными действующими лицами прочие фигуры вряд ли могут рассчитывать на внимание к себе, даже если бы они были изображены не столь безразличными. Сергий, проконсул, являющийся в этом спектакле только зрителем, разводит руками — характерный для чинквеченто жест. Возможно, таким он был уже на первоначальном наброске, однако прочие персонажи представляют собой более или менее отвлекающие и излишние фигуры заполнения, которые — вместе с неряшливой архитектурой и отдельными мелковатыми живописными эффектами — сообщают картине некий непокой. Можно предполагать, что за ее завершением Рафаэль уже не следил.
75. Рафаэль. Проповедь Павла в Афинах. Картон для ковра. Лондон. Музей Виктории и АльбертаЭто впечатление охватывает вас еще с большей силой перед «Жертвоприношением в Листре» (рис 74 {21}). Столь прославленная эта картина — совершеннейшая невнятица. Ну кто, глядя на нее, мог бы догадаться, что здесь имело место исцеление человека, что народ пожелал принести чудодею жертву как богу, а разгневанный этим чудодей, т. е. апостол Павел, разодрал на себе одежды? Основной акцент поставлен на воспроизведении сцены языческого жертвоприношения, заимствованной с рельефа одного античного саркофага, и археологический интерес оттеснил все прочее в сторону. Уже само по себе буквальное цитирование образца заставляет усомниться в авторстве Рафаэля, но и помимо этого все внесенные в прообраз изменения послужили исключительно к его ухудшению. Композиция неловко расположена в пространстве и страдает спутанностью направлений.
Напротив того, картон с «Проповедью Павла в Афинах» (рис. 75 {20}) содержит значительную и оригинальную находку. Фигура проповедника с единообразно воздетыми руками, в лишенной красивости позе, не сопровождаемой красноречивым колыханием драпировок, исполнена величайшей значительности. Мы видим его только со стороны, более даже сзади: он стоит на возвышении и обращается с молитвой в глубь картины, выйдя при этом далеко вперед, к краю ступеней. Это придает ему убедительность — при всей умиротворенности. Лицо его в тени. Все выражение сконцентрировано в мощной и простой линии фигуры, победоносно оглашающей картину своим звучанием. Погремушками кажутся рядом с этим оратором все святые проповедники [на картинах] XV в.
Слушатели внизу намеренно изображены с большим уменьшением. Впечатлением от речи озарено множество лиц — задача явно во вкусе Рафаэля того времени. Отдельные фигуры достойны его мастерства, в случае же других невозможно отделаться от впечатления, что и здесь не обошлось без чуждых выдумок. (Особенно это касается грубых лиц на переднем плане.)
Архитектуре свойственна некоторая навязчивость: фон, на котором изображен Павел, тут уместен, что же до круглого (как [«Темпьетто»] у Браманте) храма, то его было бы желательно заменить чем-то другим. В диагональном соответствии с христианским проповедником находится статуя Марса — действенный прием для усиления направления.
Композиции, которых нет на картонах, существующие лишь как ковры, мы разбирать не станем, и все же одно принципиальное замечание о соотношении рисунка с тканым ковром сделать следует. Как известно, в процессе ковроткачества картина реализуется в зеркальном отображении, и мы ожидаем, что на образцах это должно приниматься в расчет. Примечательно, что не на всех картонах это было учтено в равной степени. «Чудесный улов», обращение Христа к Петру, «Исцеление хромого» и «Смерть Анании» исполнены так, что правильное изображение может возникнуть лишь на ковре, в то время как «Жертвоприношение в Листре» и «Ослепление Элимы» при перевертывании проигрывают. («Проповедь в Афинах» в данном отношении безразлична[79].) Дело здесь не только в том, что левая рука становится правой и, например, благословение левой может выглядеть неловким: рафаэлевские композиции этого стиля вообще невозможно переворачивать как кому заблагорассудится, не разрушая в чем-то их красоты. Рафаэль ведет глаз слева направо, так он был воспитан. Даже на композициях, выстроенных спокойно, таких, как «Диспута», поток течет в этом направлении. А уж на картине, изображающей мощное движение, мы находим всегда одно и то же: Гелиодор должен быть загнан в правый угол фрески — так движение делается убедительнее. И когда в «Чудесном улове» Рафаэль желает провести наш взгляд через рыбаков к Христу, вполне естественно, что движение будет развиваться слева направо; когда же он стремится придать убедительности внезапному падению Анании, он обрушивает его наземь в обратном направлении.
6. Римские портреты
Переходя от картин-повествований к портрету, мы можем только сказать, что также и портрету теперь предопределено сделаться повествованием.
Портретам кватроченто присуща некая наивность в следовании оригиналу. Они воспроизводят личность, не требуя от нее определенного выражения. Люди выглядывают с картин безразлично, с едва не потрясающей естественностью. Главное — достижение убедительного сходства, а не определенного настроения. Встречаются и исключения, но, как правило, удовлетворялись тем, чтобы намертво зафиксировать непреходящий облик изображаемого, и соблюдение условности в позе, как казалось, не наносило совершенно никакого ущерба живости изображения.
Новое же искусство выдвинуло требование передачи в портрете характерной для личности ситуации, определенного момента свободнотекущей жизни. Художники перестают полагаться на то, что черты лица скажут сами за себя: движение и жест также теперь должны быть полны выразительности. От описательного стиля совершается переход к драматическому.
Однако и сами лица обладают теперь новой энергией выражения. Сразу же становится заметно, что это искусство обладает более богатыми средствами характеристики. На службу ей оказываются призваны передача светотени, манера проведения линии, распределение объемов в пространстве. Содействие возникновению определенного выражения приходит отовсюду. Чтобы личностная сущность оказала воздействие в полную силу, некоторые черты теперь особенно подчеркиваются, другие же приглушаются, в то время как кватроченто оформляло все приблизительно одинаково.
Во флорентийских портретах Рафаэля отыскивать этот стиль еще не следует — только в Риме сделался он, собственно говоря, живописцем человеческих образов. Юный художник подобно бабочке порхал вокруг явлений, и у него еще напрочь отсутствовала твердая хватка, способность сжать форму до ее индивидуального содержания. «Маддалена Дони» [Питти] поверхностна, и мне кажется невозможным приписывать тому же художнику прекрасный женский портрет, так называемую «Сестру Дони» из «Трибуна»[80] [Уффици]: Рафаэль, очевидно, просто не обладал тогда органами, потребными для того, чтобы так вгрызться в открывающееся взору[81]. Сам ход его развития являет собой примечательное зрелище: чем крупнее становится стиль, тем мощнее и сила индивидуального.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение"
Книги похожие на "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Генрих Вёльфлин - Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение"
Отзывы читателей о книге "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение", комментарии и мнения людей о произведении.