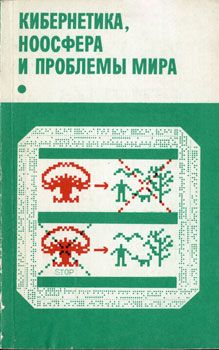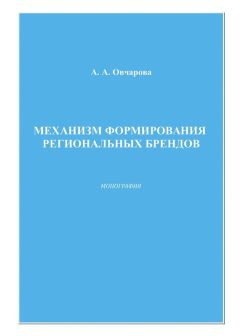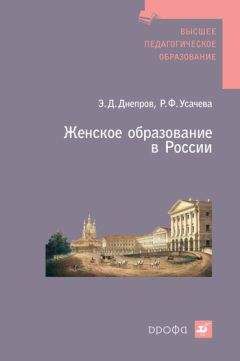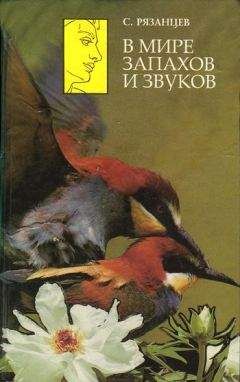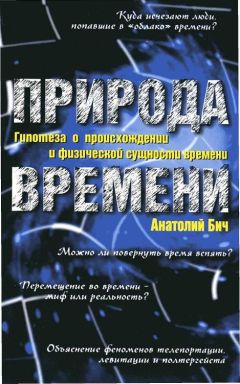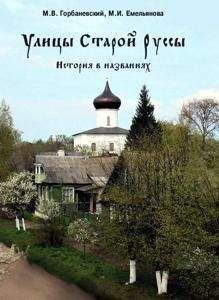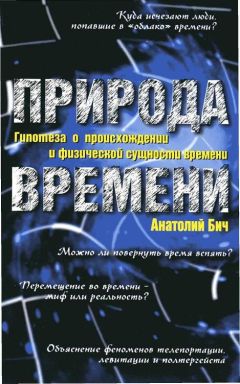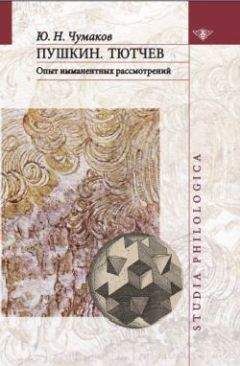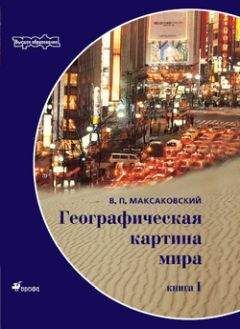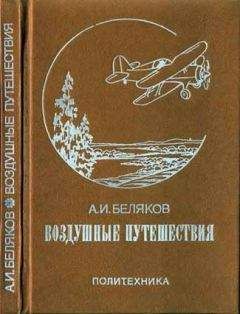А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Описание и краткое содержание "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать бесплатно онлайн.
В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.
Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.
The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria. And this phenomenon was common to both, Russian-language literature at home and abroad, and West European literary writings.
The book is addressed to a wide range of readers, from literary critics, university lecturers and students to anyone interested in Russian and West European fiction.
Но почему же мастер, говоря о герое вымышленном, тоже употребляет слово «описывать»? Ответ – в сцене сочинения своей пьесы писателем Максудовым.
«Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. <…> Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. <…> С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля <…> И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать? А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается <…> Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют „Фауста“. Вдруг „Фауст“ смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу – напевает. Пишу – напевает» [Б., T.4, c.434–435].
Вот оно! Оказывается, «описывать» – значит вовсе не изображать окружающий мир, но правдиво («чего не видишь, писать не следует») воссоздавать то, что является воображению художника. И когда мастер говорит, что он потерял способность «описывать», он имеет в виду, что ему перестали являться «волшебные картинки» и он утратил дар их воссоздавать в своих книгах.
Творческий процесс здесь – «объективация снов», ибо являются «волшебные картинки» писателю в творческих снах:
«– Он [роман – А.З.] зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна, – рассказывал писатель Максудов. – Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война <…> Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах <…> Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен» [Б., T.4, c.405].
Другая пьеса – мы знаем, что она станет «Зойкиной квартирой», – также зародилась в некоем странном видении – творческой галлюцинации:
«…из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл – „третьим действием“. Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?»[Б., T.4, c.519].
И «ершалаимские» главы «Мастера и Маргариты» возникают как «живые картинки», являясь уже более сложным образом, чем то было в «Театральном романе», – из реальности мистико-трансцендентной или метафикциональной.
Уже на первых страницах романа из уст Воланда звучит таинственное: «И доказательств никаких не требуется <…> Все просто: в белом плаще…» [Б., T.5, c.19] – и является сцена на балконе дворца Ирода Великого. Так же зачинается история Иешуа и Понтия Пилата – фрагментом той же кодовой фразы, которая и обрамляет роман мастера. Затем в воображении Маргариты возникает метареальность романа ее возлюбленного, как бы вызванная к жизни первой фразы:
«…до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и перечитывать слова: „Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город … Да, тьма“» [Б., T.5, c.289–290].
А вот с видениями Ивана Бездомного все обстоит гораздо сложнее:
«Ему стало сниться, что солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением <…> в ночь полнолуния» он «видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса…» [Б., T.5, c.167, 383].
Здесь явно оживает художественная реальность романа мастера. Но вот сон, навеянный вспрыскиванием морфия:
«…в ночь полнолуния <…> к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне…» [Б., T.5, c.383].
Из какой реальности приходит это видение – из художественной или мистико-трансцендентной? Очевидно, из обеих: ведь сцена примирения жертвы со своим палачом берет свое начало в тексте мастера, как бы продолжая сон Пилата. В то же время она ирреальна, поскольку могла произойти только в инобытии – после прощения героя мастером и Высшим Цензором, а следовательно, уже за пределами романа мастера. В первом случае прощение Пилата воплощает страстное и несбыточное желание героя, а во втором – решение его судьбы в инобытии.
Если же представить, что свидетельство очевидца Воланда и сочинение мастера истинны и «на самом деле» было так, как они говорят (ведь мастер писал о том, «чего никогда не видал, но наверно знал, что оно было» [Б., T.5, c.355]), то получится нечто совсем уже неожиданное: все приведенные случаи – переход сюжета об Иешуа и Пилате из одной реальности в другую, из настоящего в прошлое и наоборот.
Или реальность вообще одна – материально-трансцендентно-художественная? Я склоняюсь к последнему.
У Набокова концепция творчески продуктивной «сновидческой» реальности разработана более подробно. Так, в «Аде» возникает ее образный аналог – развернутая метафора «организованного сна» как симбиоза реальности – воображения – памяти [Н1., T.4, c.345–351]. «Организованный сон» – это образ-ген, который затем развернется в художественный текст.
В эссе «Вдохновение» писатель рассказал о таком «творческом сне», который он «записал», преобразовав позднее в связный текст:
«Море, бьющее и отступающее с шелестом гальки, Гуан и прелестная молодая блудница – какое имя ему назвали, Адора? кто она – итальянка, румынка, ирландка? – уснувшая у него на коленях, накрытая его оперным плащом, свеча, чадящая в цинковой плошке на подоконнике рядом с обернутым в бумагу букетом длинностебельных роз, его цилиндр на каменном полу, рядом с лунным пятном, – все это в углу обветшалого, некогда походившего на дворец веселого дома, Виллы Венус, на скалистом берегу Средиземного моря, за приотворенной дверью виднеется нечто схожее с освещенной луной галереей, на деле же – полуразрушенная гостиная с обвалившейся наружной стеной, за огромным проломом которой уныло ухает и уходит, клацая мокрой галькой, голое море, будто вздохи разлученного с временем пространства» [Н1., T.4, c.608–609].
Из этой сновидческой реальности структурировался роман «Ада», где, как воспоминание о сне-гене, возникнут перетасованные и несколько видоизмененные его фрагменты, предваряющие рассуждения Ван Вина об «организованном сне» [Н1., T.4, c.344–345].
Концепция «организованного сна» отражает набоковское понимание отношений между двумя реальностями – художественной и эмпирической. Доминантная роль в процессе преображения «реальной» жизни в произведение искусства принадлежит Мнемозине – креативной памяти.
Феномен креативной памяти следует рассматривать в более широком культурологическом аспекте – в контексте проблемы «культурной памяти». Тема, начатая в классических трудах М. Хальбвакса и Я. Ассмана[89], получила развитие уже 1990-е гг. в работах Ю. Лотмана[90] и продолжает оставаться актуальной по сей день[91]. Авторы классических трудов тему «культурной памяти» разрабатывали по преимуществу в культурологическом ключе, имея в виду memoria коллективную, этно– и социополитически детерминированную. Литературоведческий ее аспект предполагает изучение индивидуальной творческой памяти, а также модели ее взаимодействия с памятью групповой.
В этом контексте метапроза Владимира Набокова, и роман «Дар» в особенности, представляет несомненный интерес как пример функционирования категории «культурной памяти» внутри индивидуального сознания художника-Демиурга[92].
Критики сразу обратили внимание на то, что в сочинениях В. Сирина воспоминание играет ведущую роль. М. Кантор полагал, что сосредоточенность на воспоминаниях неизбежно ограничивает перспективы молодого писателя: когда потенциал прошлого будет исчерпан, наступит творческий кризис. Единственная возможность преодолеть кризис – сбросить «бремя памяти», выйдя за пределы воспоминаний[93]. Главная ошибка М. Кантора заключалась в том, что категорию памяти он рассматривал в традиционных параметрах реалистического искусства, понимая ее как воспоминание о бывшем на самом деле. Потенциал таких воспоминаний у каждого человека действительно ограничен. Но в мире Набокова память неисчерпаема, ибо она есть память креативная.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Книги похожие на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Отзывы читателей о книге "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.