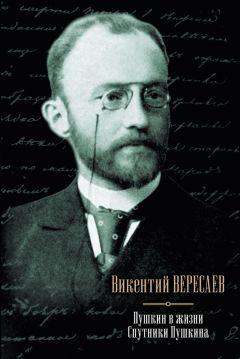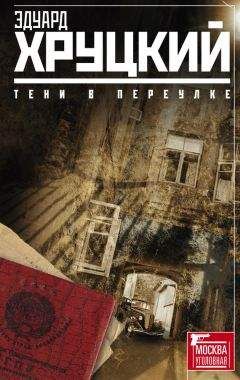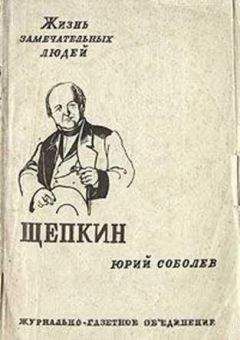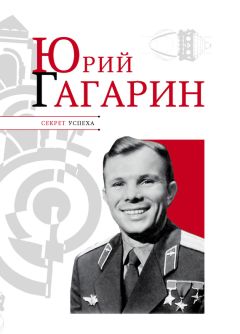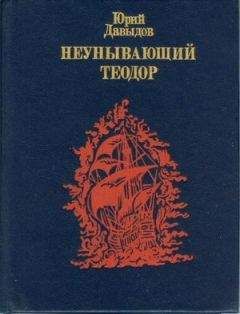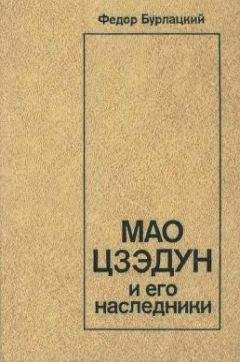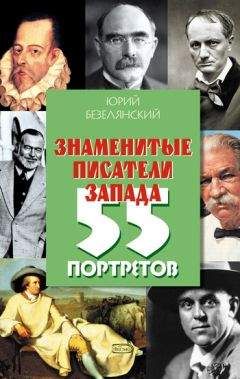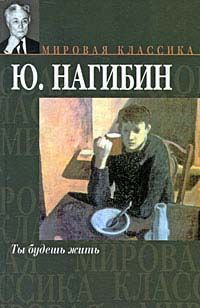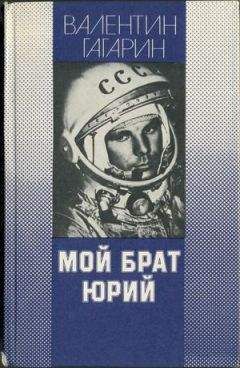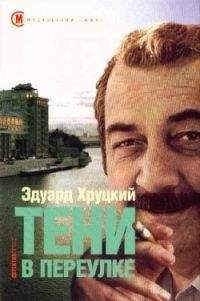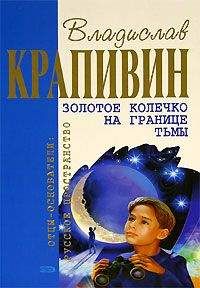Юрий Оклянский - Оставшиеся в тени

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Оставшиеся в тени"
Описание и краткое содержание "Оставшиеся в тени" читать бесплатно онлайн.
Книга Юрия Оклянского «Оставшиеся в тени» впервые объединяет под одной обложкой две биографические повести, получившие широкое признание читателей. Главных героинь «Шумного захолустья» и «Повести о маленьком солдате» роднят незаурядность натур и тот вклад, который они внесли в историю литературы и события эпохи. Частичная доработка произведений, осуществленная автором в настоящем издании, отобразила документальные материалы последних лет.
Подлинную остроту дела они видели вовсе не в той «клубничке», которую смаковал падкий на пересуды обыватель. Быть может, более всего их занимало лицо, не явившееся на процесс, — графиня Александра Леонтьевна Толстая.
Нарушив незыблемость и святость одного из главных общественных институтов — семьи, молодая графиня повторила пример своей трагической литературной современницы Анны Карениной. Но она тем более не могла ждать пощады от официальной морали, что поступила «еще хуже».
Жизненная ситуация остротой могла поспорить с изображенной в романе, которым пять или шесть лет назад начала зачитываться русская образованная публика. Не говоря уже о трех оставленных детях и о том, что Александра Леонтьевна «оскорбила» общественное приличие, уходя от мужа беременной, она вдобавок выбрала не аристократа, человека «своего круга», каким для Анны был Вронский, а какого-то земского служащего, то есть поступила «безвкусно» и нерасчетливо. А это было уже не просто нарушением неписаной кастовой морали, это было оплеухой всему «бомонду».
Во имя любви она разом порвала все многочисленные моральные путы, связывающие даму ее круга. Резонанс от этого поступка молодой женщины был громче, чем выстрел, раздавшийся в вагоне поезда, шедшего на Сызрань.
Все передовое меньшинство в зале прекрасно понимало, что, хотя на скамье подсудимых сидел граф Толстой, фактически должен был свершиться также публичный суд над бунтом против устоев официальной морали, поднятым молодой русской женщиной, к тому же не в привычном к потрясениям Петербурге, а среди сонной одури дворянско-купеческого захолустья.
Имелось еще одно обстоятельство, которое, в зависимости от умонастроения, должно было либо всерьез беспокоить, либо только забавлять сидящего в зале ссыльного народовольца или поднадзорного радикала.
Истерический выстрел графа поставил власти в затруднительное положение, вынудив их к принятию мер. В результате закон и официальная мораль разошлись между собой. Буква закона усадила графа на скамью подсудимых. Но сочувствие господствующей морали было целиком на стороне графа, защищавшего «семейные устои» и свою «честь» против «греховных и стыдных» поступков жены и ее возлюбленного.
Как должен был выкарабкиваться из этого щекотливого положения суд?
На памяти был нашумевший несколько лет назад на всю Россию случай, когда суд присяжных в Петербурге в «пику властям» оправдал революционерку Веру Засулич, которая в январе 1878 года ранила из револьвера петербургского градоначальника Трепова, надругавшегося над честью ее товарища.
«Но если суд присяжных в Петербурге показал свою независимость в столь трудном политическом деле, то неужто не найдут в себе капельки самостоятельности самарские присяжные? Пусть отважатся хотя бы на простой судейский педантизм в соблюдении закона. И графу тогда из-за барьера скамьи подсудимых прямым ходом отправляться за решетку!..» — примерно так рассуждал про себя радикальный самарец.
Но, может быть, как раз в эту минуту его взгляд останавливался на нескольких угрюмых и выжидающих физиономиях, выделявшихся среди оживленной и принаряженной публики в зале.
Здесь был кое-кто из постоянной челяди графа Толстого, так называемых панков. Это были дворяне-однодворцы, которым правительство отвело землю в Самарском уезде. У большинства панков от предков остались только древние родовитые фамилии — Шаховские, Трубецкие, Ромодановские и т. д. В Самаре они были известны главным образом тем, как ловко использовал их хозяин уезда. В день дворянских выборов всю эту голытьбу, часть из которых была даже неграмотна, привозили на графских лошадях в Самару. Наряжали в выданные напрокат фраки, и они, явившись в благородное собрание, единодушно голосовали за «хозяина».
Из панков состояла также известная округе толпа графских приживальщиков и телохранителей, его «лейб-гвардия», частью представленная и ныне в зале то ли для вящего напоминания и острастки забывчивым, то ли на какую непредвиденную крайность.
Короче говоря, зал судебного заседания представлял в миниатюре всю тогдашнюю «образованную Самару». И Самара эта перед открытием заседания бурлила, жаждала подробностей, сплетничала, сочувствовала и негодовала…
Читатель, знакомый с биографией Алексея Николаевича Толстого, конечно, уже понял, что сидящий на скамье подсудимых граф — это отец будущего писателя, графиня Александра Леонтьевна — мать, а Алексей Аполлонович Бостром — отчим. Сам будущий писатель, которому тогда не исполнилось еще от роду и одного месяца, в день суда находился на руках матери в доме Бострома, за несколько десятков верст от Самары.
Как и все, кто интересуется писательской судьбой Алексея Толстого, об этой истории я слышал давно, еще до начала 60-х годов, когда затеялась книга. И тогда же она чем-то задела меня. Даже по беглым упоминаниям в биографиях писателя чувствовалось, что она не походила на заурядную семейную драму. Поиски материалов подтвердили догадки. Теперь я знаю, что об этой необычной и героической истории следовало бы рассказать даже в том случае, если бы она не была связана с обстоятельствами рождения будущего писателя.
Откуда же взялись материалы?
Из обширной литературы об А. Н. Толстом, к сожалению, удалось почерпнуть немного. Литературоведы до сих пор почти не касались обстоятельств и хода этого нашумевшего в свое время судебного процесса, если не считать кратких упоминаний о нем. Однако сведения копились. В монографиях В. Щербины «А. Н. Толстой. Творческий путь» (М., «Советский писатель», 1956) и Ю. Крестинского «А. Н. Толстой. Жизнь и творчество» (М., Изд-во АН СССР, 1960) названы два разысканных ими источника, в которых содержится, по словам В. Щербины, «чрезвычайно интересный, еще не использованный литературоведами материал». Это большие статьи о деле графа Толстого, появившиеся одновременно, в воскресенье 30 января 1883 года, в двух столичных газетах, — в петербургской «Неделе» и «Московском телеграфе».
Конечно, я прочел эти статьи.
Соблазнительно было разыскать само судебное досье. В Куйбышевском областном государственном архиве я перелистал несколько пухлых томов, страницы которых испещрены витиеватыми почерками целых поколений судейских писцов, — записи о деле графа Толстого не оказалось. Значит, не было и самого досье.
— До революции в окружном суде был пожар, тогда многое погорело! — сказала хранительница архивов. И, подумав, добавила: — Впрочем, можно еще попробовать… Поищите в архивах Казанской судебной палаты, куда входил Самарский окружной суд и постановлением которого граф Толстой был предан суду…
Я поджидал оказии на поездку в Казань, когда стало известно, что в Куйбышеве обнаружен совершенно уникальный семейный архив А. Н. Толстого.
Это было, может, одно из самых счастливых приобретений нашего литературоведения конца 50-х — начала 60-х годов. Неизвестный доселе архив хронологически охватывал более полувека — с 1867 года (письмо 12-летней гимназистки Саши Тургеневой к матери) до 1921 года (письмо А. Н. Толстого отчиму, относящееся к августу — сентябрю 1917 года, и последние документы самого А. А. Бострома). Архив содержал большую переписку родных Алексея Николаевича, в том числе письма графа Н. А. Толстого жене, первоначальный набросок его завещания, большую многолетнюю переписку Александры Леонтьевны с Бостромом, письма деда писателя Леонтия Борисовича Тургенева к дочери, множество тетрадей с записями, дневников, рукописей произведений Александры Леонтьевны, некоторые издания ее книг. Одних писем разных лет Алексея Николаевича Толстого к матери и отчиму около ста! А кроме того, были первые издания книг А. Н. Толстого с дарственными надписями, многочисленные фотографии с автографами писателя, записки, документы. И все это новое, абсолютно неизвестное!
Начались страдные недели и месяцы. С утра я появлялся в белом двухэтажном особнячке Куйбышевского литературно-мемориального музея имени А. М. Горького. Хранительница фондов Маргарита Павловна Лимарова, оставив меня наедине с очередной порцией старых тетрадей и писем (часто еще не читанных даже сотрудниками музея), уходила. И для меня мгновенно исчезало все — поверхность стола, стены, комната, даже я сам. Терялось ощущение времени.
Старые письма были частичкой исчезнувшего бытия… Глубоко личные, не предназначавшиеся для постороннего глаза страницы, с взволнованно набегающими одна на другую строчками, с вычерками, помарками, с передышками раздумий и размашистой скорописью найденных слов, хранили трепетность и откровение минуты. Начинало казаться, будто они вовсе не давние, будто их принесла вчерашняя почта.
Я поднимал глаза. По соседству с комнатой, где я сидел, за изгибом тихого узкого коридорчика, была еще одна слепая полуподвальная клетушка. Я ее хорошо знал. Там стояла одинокая железная кровать, покрытая серым одеялом, был столик с несколькими книгами, чернильница и перо. Там в конце прошлого века ютился высокий худой человек, носивший широкополую шляпу и темную накидку. Там ночами писал свои очерки и рассказы фельетонист «Самарской газеты» Иегудиил Хламида — молодой Горький. В этой комнатке, остановившись, застыло то же самое время…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Оставшиеся в тени"
Книги похожие на "Оставшиеся в тени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Оклянский - Оставшиеся в тени"
Отзывы читателей о книге "Оставшиеся в тени", комментарии и мнения людей о произведении.