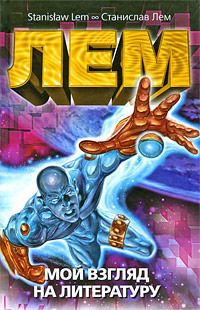Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Описание и краткое содержание "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее" читать бесплатно онлайн.
В книге собраны эссе швейцарского литературоведа Петера фон Матта, представляющие путь, в первую очередь, немецкоязычной литературы альпийской страны в контексте истории. Отдельные статьи посвящены писателям Швейцарии — от Иеремии Готхельфа и Готфрида Келлера, Иоганна Каспара Лафатера и Роберта Вальзера до Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша, Адельхайд Дюванель и Отто Ф. Вальтера.
Однако если сочинительство основывается на безусловном произволе, это в конечном счете оправдывает и безусловную произвольность интерпретации. Читатель должен просветлять не текст, но, читая, — себя самого. Он должен начать светиться, как если бы сам был роскошным художественным произведением. Так, по крайней мере, можно истолковать виртуозную миниатюру Ледераха: «Знаешь историю об Эдисоне? — Нет. — <…> История такова: поскольку Эдисон в самом деле изобрел свет, он ввинчивает себя в патрон, висит на потолке, головой вниз, берет в руки длинный гибкий прут, нащупывает выключатель, включает его и спокойно себе горит в своем патроне, что доказывает правдивость истории». Кто ж в этом усомнится?
В ПЕРВОБЫТНЫЕ ДЖУНГЛИ с Урсом Видмером
Он слишком облегчает читателям жизнь? Авторов, которые нам ее излишне усложняют, имеется предостаточно. Любители глубокомысленных намеков, шифровальщики сообщений, вполне невинных и без всякого шифра, плетельщики синтаксических кружев, уже не способные назвать кошку кошкой (хотя в этом, согласно Сартру, состоит единственная функция писателя): именно они всё в большей мере подогревают желание издательств искать новые таланты в Гондурасе, Австралии или Гренландии. Урс Видмер — противоположный случай. Он мимикрирует под поверхностность, его коварство проявляется в умении писать занимательно. Его мифические прообразы — не Прометей или сгорающий Геракл, а Лорел и Харди[350]или бегущий Бастер Китон. Можно не сомневаться: если для Видмера речь идет о «последних вещах», он сделает из этого фарс. Кажется, его нисколько не волнует, что написанные им книги будут и прочитываться соответственно. Как Роберт Вальзер не возражал, чтобы его считали просто добродушным малым, сочинителем-дилетантом, так же и Видмер спокойно принимает к сведению, что хмурые критики упрекают его в легковесности.
С другой стороны, его нельзя использовать и как аргумент в нынешнем споре, должна ли литература развлекать читателя. Там, где в очередной раз создается конструкция «или / или», где противопоставляются метафизическая скука и ничем не отягощенная развлекательность, ни одна сторона не сможет использовать Видмера в качестве показательного примера. Потому что, хотя читается он легко и у него (будь то в коротких или длинных произведениях) дело никогда не обходится без шуток, но и эта легкость, и шутки, как ни странно, неизменно вызывают у читателей раздражение. Привыкнув находить за художественным образом какую-то реальность, а за метафорой смысл, у Видмера мы за каждым образом натыкаемся на предыдущий образ, который, в свою очередь, отсылает к еще более раннему. Смысл — как к чему-то обязывающую правду, которая должна быть нам сообщена, — мы у него никогда не ухватим, и существует обоснованное подозрение, что сам автор такого смысла тоже не знает. Отсюда — странное чувство головокружения, знакомое всем читателям Видмера. Ведь даже отдельные образы у него не стабильны. Они могут внезапно выпасть из сферы интенсивного чувственного восприятия и оказаться сомнительным колдовством: в этом случае не произойдет окончательного обнаружения бытия за пеленой кажимости, а просто колдовство будет продолжаться. Что таится в самой сердцевине видмеровского творчества, никто не знает. Черная дыра, скорее всего; или крик; или немое отчаяние.
При беглом чтении можно подумать, что всё это рассказывается абы как. Будто ты на дешевой ярмарке зашел в павильон «Дорога ужасов» и теперь мчишься по взвизгивающим извилистым рельсам, мимо призраков, скелетов и горилл, которые и прежде, в других похожих аттракционах, точно так же кивали тебе и покачивались — а потому ни о каком настоящем ужасе не может быть и речи. Больше того: эта дорога ужасов наполовину освещена. Ты видишь кабели, подведенные к потрескивающим человеческим черепам, к вспыхивающим глазам обезьяны. Видмер явно наведался в лавку литературного старьевщика, где прежние роскошные наряды свалены в унылые кучи, и из этих выцветших тряпок теперь пытается «делать искусство». Иногда барахло так и остается барахлом. А иногда из разрозненных обрывков удается скомпоновать что-то совершенно новое, невиданное, как это получалось когда-то у Макса Эрнста, который из порванных модных журналов создавал коллажи, поражающие своей вопиющей нереальностью.
«Барахлом» были и остаются, например, сцены с Гитлером, в которых напившийся Адольф устраивает выволочку немецким генералам и братается с неким швейцарцем, производителем биноклей. Видмер здесь цитирует шуточки о Гитлере, когда-то придуманные Джорджем Табори[351], который, в свою очередь, цитировал шуточки о Гитлере, придуманные Эрнстом Любичем и Чарли Чаплиным. У этих троих все было до ужаса смешно, у Видмера же нас ничто не ужасает и мало что смешит. Мы словно заглядываем в литературную лабораторию, где повествователь экспериментирует с материалом повествования и заставляет кукол немного потанцевать. Потом куклы падают. Само чудовище, Г., так и не показывается нам на глаза. Стоит ли об этом сожалеть? Или истолковывать как признание автора в несостоятельности? Думаю, нам просто дают понять, что чудовище Г. вообще нельзя показать средствами искусства и что, следовательно, те три знаменитых предшественника тоже манипулировали куклами.
Пока не закончилась ситуация, когда все мы еще могли договориться между собой относительно действительности и без лишних слов прийти к единому мнению, что она собой представляет, до тех пор сквозь литературные произведения всегда просвечивала эта действительность: они ее изображали, отображали, были этой действительностью, ее удвоением и даже ее «сгущенной» формой. Урс Видмер не говорит, что мы потеряли действительность. Заниматься такими вещами он предоставляет философам, которые изучают дух времени. Он лишь показывает нам автора, отчаянно пытающегося выбраться из-под горы литературной рухляди и создать историю, которая не будет, опять-таки, всего лишь частью громадной мусорной свалки. Если этот металлолом, думает он, достаточно долго собирать — свинчивать трубы, прилаживать их одну к другой, — то когда-нибудь, пусть только на секунду, за смонтированной конструкцией вспыхнет нечто ей противоположное: то белое остроконечное пламя совершенно иного, которое люди когда-то, когда еще существовали внятные слова, называли правдой.
Такая концепция предполагает, что человек, по крайней мере, должен уметь свинчивать трубы и монтировать металлические конструкции. И тут я должен признать: во всем, что касается планирования повествования, переплетения мотивов, отражений и отголосков, стратегии изображения тайн и их разгадок, Урс Видмер, создавая роман «В Конго», достиг нового уровня мастерства. Тут вы не найдете ни одного изящного завитка, который не окажется чуть позже просчитанным элементом конструкции. Поток повествования, на первый взгляд ничем не сдерживаемого и зависимого лишь от случая, повествования, которому читатель предается со смесью удовольствия и неловкости, чем дальше, тем больше предстает как процесс, просчитанный до мельчайших деталей. Поэтому во второй раз вы прочтете книгу как другой текст. То, что прежде казалось произвольными нелепыми фантазиями, теперь будет восприниматься как утонченная игра в загадки. Мешанина из великолепных и дурацких эпизодов — комические сцены в доме для престарелых, шпионская история времен Второй мировой войны, Африка, будто сошедшая со страниц детской книжки с картинками, рассказ о двойниках, много банальных женских образов и не лишенная жути семейная трагедия, — всё это обернется в конце концов систематически построенной метафорической картиной поиска, для понимания которой нам придется задействовать все наши способности к интерпретации литературного произведения.
Кто читает эту книгу иначе, чем она, как кажется на первый взгляд, заслуживает, кто не доверяет неуклюжему паясничанью, потому что вдруг замечает, что за ним скрывается определенный метод, тот со временем наткнется на историю заблудившейся мужской души, души, которая медленно, очень медленно находит путь к себе. Начало, рассказанное с такой молниеносной быстротой, как будто на него не надо обращать внимание, повествует об убитой матери, и ее пугающе-белые стопы остаются в памяти ребенка, который был свидетелем убийства, не понимая, что происходит, — а теперь, уже как взрослый человек, вынужден признать, что отчасти сам несет вину за случившееся. По мере приближения к правде этого преступления (которое, в свою очередь, связано с преступлениями нацистской Германии и со-виновной в них Швейцарии), в точном соответствии с таким приближением, рассказчик приближается и к подлинному существованию, к настоящей — то есть осознанно избранной — родине, к любви, способной стать центром его жизни, к делу своей жизни. Интересно, что в этом романе понятие превращения с поразительной наивностью поймано на слове: белое здесь становится черным. Как Анатоль Штиллер возвращается из своего путешествия-инициации под именем мистер Уайт[352], так же и здесь наш путешествующий соотечественник становится мистером Блэком в самом буквальном смысле[353].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Книги похожие на "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Отзывы читателей о книге "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее", комментарии и мнения людей о произведении.