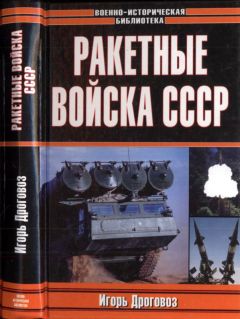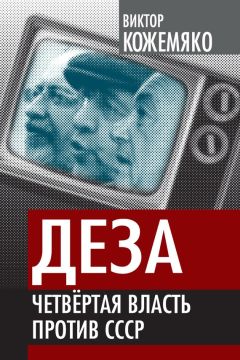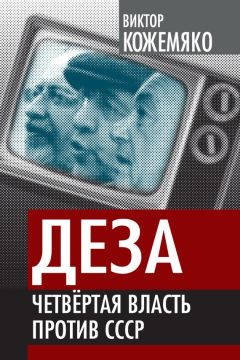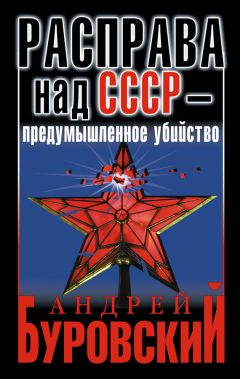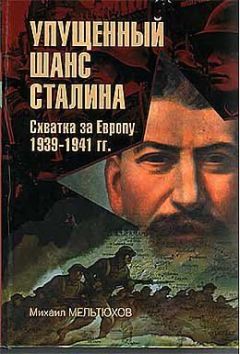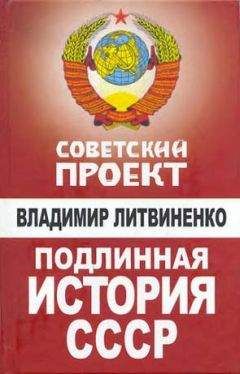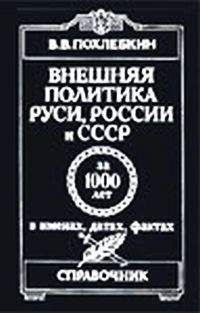Олег Кен - Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934
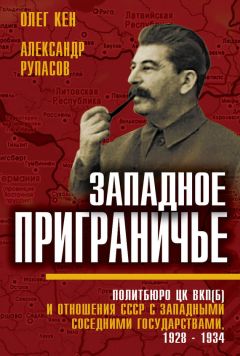
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934"
Описание и краткое содержание "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934" читать бесплатно онлайн.
История Советского Союза – во многом история восстановления, расширения и удержания статуса мировой державы. Неудивительно, поэтому, что специалисты по внешней политике СССР сосредоточивали свое главное внимание на его взаимодействии с великими державами, тогда как изучение советской межвоенной политики в отношении «малых» восточноевропейских государств оказалось на периферии исследовательских интересов. В наше время Москва вновь оказалась перед проблемой выстраивания взаимоотношений со своими западными соседями. Трудность осмысления сегодняшних проблем Восточно-Центральной Европы сочетается со сравнительной бедностью комплексного анализа истории взаимоотношений между СССР и его западными соседями.
Существовала ли у руководства СССР целенаправленная политика в отношении западных соседей? Как формировалась советская «внешняя политика»? Как строился процесс принятия решений и насколько существенные перемены в нем произошли со вступлением СССР в «сталинскую эпоху»? Эти проблемы, многие из которых на протяжении более полувека будоражили сознание современников и историков межвоенной эпохи, государственных деятелей и политических аналитиков, находились в фокусе внимания авторов предлагаемой книги – известных российских историков Олега Кена и Александра Рупасова.
Общий подход советского руководства к возможности сочетания дипломатических и экономических инструментов для завоевания политического влияния в СССР в сопредельных аграрно-промышленных странах коренился в том же своеобразном реализме, который на протяжении большей части межвоенного двадцатилетия диктовал ему страх перед интервенцией и вызывал обвинение в «национальной ограниченности» со стороны левой оппозиции и традиционалистов-государственников[367]. В полемике с Чичериным относительно «нашей экономической политики в государствах Востока» в начале 20-х гг. Сталин отчетливо сформулировал возражения против идеи «противодействовать поглощению восточных стран», Латвии и Польши, «антантовским капиталом». «Для меня несомненно, – отвечал Сталин, – что мы ни по торговой, ни по промышленной линии тягаться с врагами в упомянутых выше [восточных. – Авт.] странах не в силах, пока – 1) курс русского рубля падает, 2) экспортного фонда нет у нас или почти нет, 3) наш торговый баланс отчаянно пассивен, 4) нет у нас достаточного количества золота, могущего компенсировать наши хозяйственные недочеты по трем предыдущим пунктам»[368]. Нетрудно заметить, что ни один из аргументов Сталина против широкого использования экономических инструментов в международной политике СССР, не утратил актуальности и десятилетия спустя[369]. Поэтому итоги экономического проникновения в Северо-Восточной Европе, на которое было нацелено внимание советских политиков, дипломатов и военных во многом оказались подобны результатам российских усилий закрепиться на Ближнем Востоке в конце XIX – начале XX в. «Если на периферии Империи в Центральной и Восточной Азии Россия была в состоянии с долей успеха подражать способам и средствам, применяемым современным империализмом», то в области, где ей приходилось сталкиваться с более развитой международной финансовой и коммерческой инфраструктурой, российский империализм оставался весьма «несовременным», его экономическая отсталость приходила в прямое противоречие с внешнеполитическими приоритетами[370]. Более не питая чрезмерных иллюзий в отношении силы идей и скептически относясь к своим хозяйственным возможностям, советская политика в отношении соседних восточноевропейских стран конца 20-х – середины 30-х гг. была вынуждена излагаться на традиционные силовые и политико-дипломатические средства.
* * *В минуту «откровенности» влиятельный чехословацкий дипломат Ф. Папоушек передал полпреду СССР слова президента Чехословакии Т.Г. Масарика: «Русские не понимают, каких псов они могли бы иметь против Европы в лице среднеевропейских малых государств»[371]. Разумеется, было бы неоправданной наивностью буквально воспринимать эту оценку применительно к политике СССР в отношении своих западных соседей, игнорируя сложность внутренних и международных процессов в Восточно-Центральной Европе. В ретроспективе представляется, однако, несомненным, что Москва лишь в малой степени сумела реализовать как потенциал политического и хозяйственного сотрудничества со странами, lingva franco которых еще оставался русский язык, так и возможности сотрудничества с ними в европейской политике в интересах региональной стабильности. Заключение договоров о взаимной неагрессии переросло в нащупывание общих с соседями международно-политических интересов. При этом, однако, главные усилия Москвы оказались сосредоточены на вхождении в круг великих держав, чему было отдано предпочтение перед непосредственным сотрудничеством с соседними странами. Едва оправившись от синдрома окружения по периметру западной границы, советское руководство перешло к быстрому усвоению великодержавного тона в отношении своих соседей. Наиболее отчетливо эта перемена проявилась в советско-польских отношениях, являвшихся в значительной степени осью отношений СССР с его западными соседями в конце 20-х – середине 30-х гг.
Решения и комментарии20 декабря 1928 г.
4. – О пакте Келлога (т. Литвинов).
Принять предложение НКИД об обращении к Польше и Литве с предложением подписать протокол о быстрейшей ратификации пакта Келлога и о признании его вступившем в силу между ними и СССР, независимо от ратификации других участников пакта. В ноте указать, что это предложение отнюдь не снимает вопроса о заключении специального пакта о ненападении, но является лишь первым шагом к нему.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 55 (особый № 54) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.12.1928. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 14.
Рассмотрение в Политбюро проблематики пакта Бриана-Келлога и реализация советской дипломатией соответствующих решений прошли два этапа. На первом из них (июль-август 1928 г.) было принято решение о присоединении к Договору об отказе от войны в качестве орудия национальной политики пакт (Бриана-Келлога), подписанном в Париже 27 августа 1928 г. пятнадцатью государствами, включая западные великие державы и Польшу. Преодолев колебания, двумя днями позже Москва официально присоединилась к Договору об отказе от войны; СССР первым из государств-участников ратифицировал его. Декабрьское решение Политбюро продолжило намеченную в августе-сентябре 1928 г. линию по использованию участия СССР в пакте Келлога в целях внешнеполитической пропаганды, однако существо новой инициативы далеко выходило за эти рамки и привело к непредвиденным политическим последствиям.
Выдвигая ее, руководство НКИД исходило из идеи «сразу предложить Польше и Литве подписать один протокол, который бы связывал все три государства в их взаимоотношениях», что и было одобрено Политбюро 20 декабря 1928 г. Инициатива заключения трехстороннего политического соглашения противоречила одной из основных установок советской дипломатии «чичеринской» эпохи. Несмотря на то, что постепенная интеграция СССР в международную политическую жизнь требовала расширять диапазон применяемых средств, Москва упорно держалась взгляда, что единственное в мире социалистическое государство неизбежно проиграет, согласившись на участие в какой-либо многосторонней комбинации, даже если другими ее участниками будут страны, состоящие в наилучших отношениях с СССР или находящиеся на периферии большой политики. Еще в марте 1928 г. Политбюро постановило отвергнуть предложение (исходившее, вероятно, от дружественной Турции) о заключении четверного пакта о ненападении между СССР, Турцией, Италией и Грецией, поручив советским представителям «вести переговоры в том духе, что СССР готов заключить как одновременно, так и в различное время пакты о ненападении с каждым государством в отдельности»[372].
Вероятно поэтому, вслед за одобрением предложений исполняющего обязанности наркома по иностранным делам М.М. Литвинова руководство Политбюро решило взять назад свое согласие с идеей заключения тройственного протокола. «Вследствие некоторых возражений со стороны инстанции», руководители Наркоминдела «остановились на предложении Польше и Литве двусторонних протоколов»[373]. 29 декабря Литвинов вручил польскому посланнику в СССР ноту с приложенным к ней проектом советско-польского протокола и передал копию этих документов литовскому посланнику Ю. Балтрушайтису, официально предложив Каунасу подписать «этот же протокол»[374]. Однако уже через несколько дней Литвинов фактически добился возвращения к прежней директиве Политбюро. На вопрос С. Патека о том, идет ли речь о тройственном протоколе, двусторонних протоколах или же о присоединении Литвы к советско-польскому протоколу, Литвинов дал следующий ответ: «Мы не хотели навязывать ни Литве, ни Польше какой-либо определенной формы участия всех трех государств в протоколе, хотя и наиболее желательной нам. Могут быть и двусторонние протоколы между нами и Польшей, между нами и Литвой, между Литвой и Польшей. Мы мыслим, однако, одновременное подписание всеми тремя государствами единого протокола». Как на решающий аргумент и.о. наркома сослался на намерение Литвы «подписать втроем протокол о скорейшем введении в действие пакта Келлога»[375]. «В действительности Вольдемарас такого согласия не давал, а изъявил лишь готовность присоединиться к советско-польскому протоколу», расхождение между этими версиями якобы было вызвано «недоразумениями при передаче из Ковно»[376]. Эта «ошибка» в точности соответствовала тому, чего ожидали от Литвы в руководстве НКИД – выступить с предложением «общего протокола»[377], и хотя она была вскоре разъяснена, советская позиция относительно целесообразности подписания общего протокола в дальнейшем не претерпела изменений.
Указание на то, что в подготавливаемой ноте следует указать, что предлагаемый протокол рассматривается СССР в качестве первого шага к пакту о ненападении, вероятно, отражает несогласие Политбюро с трактовкой этого вопроса руководством НКИД. Полпред СССР в Польше видел основное достоинство нового предложения Польше в том, что «подписание такого протокола делало бы совершенно ненужным какой-нибудь куцый пакт о неагрессии»[378]. В пользу этого предположения свидетельствует и тот факт, что и в 1927, и в 1931 г. при обсуждении перспектив заключения пакта ненападения с Польшей, Политбюро подталкивало НКИД к максимальным усилиям в этом направлении. Наряду с вероятными принципиальными возражениями руководства НКИД против актуализации вопроса о советско-польском пакте ненападения, оно стремилось избежать указания на него по соображениям переговорной тактики. Будучи хорошо осведомлен о польской позиции, Литвинов не исключал того, что идея дополнительного протокола может развиться в подписание его не только СССР, Польшей, Литвой, но и всеми западными соседями СССР, и опасался, что в будущем это ослабит советскую дипломатию в ее отказе от подобной схемы заключения пакта о ненападении. «Наше одновременное обращение к Польше и ко всей Прибалтике было бы неудобным для нас потому, что оно вызвало бы упрек со стороны Польши в отклонении нами в свое время польского предложения о подписании общего пакта о ненападении», – разъяснял он[379].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934"
Книги похожие на "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Олег Кен - Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934"
Отзывы читателей о книге "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934", комментарии и мнения людей о произведении.