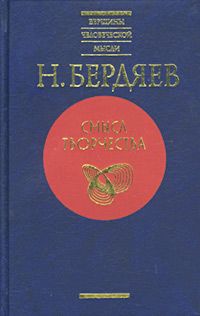Николай Омельченко - Опыт философской антропологии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Опыт философской антропологии"
Описание и краткое содержание "Опыт философской антропологии" читать бесплатно онлайн.
Настоящая монография представляет собой опыт гуманистической философской антропологии; автор последовательно доказывает ту истину, что у человека нет будущего по ту сторону принципа гуманизма. В основе полученных выводов находится оригинальная исследовательская методология.
Иными словами, люди сознают свое несовершенство и стремятся улучшить себя. В идее сверхчеловека слышится самокритика человечества и желание большего совершенства. Без всякого сомнения, эти интенции смертной души делают честь людям, они свидетельствуют о великих возможностях самого человека. Вместе с тем трудно согласиться, что идеал сверхчеловека является «естественным» для человека. Этот имидж можно считать естественным в том смысле, в каком естественно (то есть реально) существует мифология. Однако никакой Übermensch не является тем пределом, той целью, к которой должен «естественно» стремиться homo sapiens.
Образ сверхчеловека есть миф, которым уводит человека от самого себя, отчуждает его от собственной сущности. С точки зрения данной концепции человек фатально плох. Его изменение к лучшему означает становление не человека, но сверхчеловека. Чтобы стать совершеннее, человек должен перестать быть человеком, он должен умереть и перейти в иное, над-человеческое состояние. Любая идея сверхчеловека принижает самого человека, лишает его внутренней ценности и значимости, закрепляет за ним второсортное положение в мире. Сам человек не способен к великому. Если в нем вдруг обнаруживается некий талант, то это качество объявляется не человеческим, но сверхчеловеческим; оно дано свыше (так, говорят: всякий талант от Бога).
На оценке В. Соловьевым идеи сверхчеловека лежит печать его религиозно-философской позиции. Übermensch привлекателен для философа отчасти потому, что он сам исповедует религию сверхчеловека. Человек, рассуждает Соловьев, есть прежде всего «смертный», то есть побеждается, преодолевается смертью. Сверхчеловек должен быть победителем смерти, то есть «освобожденным освободителем человечества от тех существенных условий, которые делают смерть необходимою, и, следовательно, исполнителем тех условий, при которых возможно или вовсе не умирать, или, умерев, воскреснуть для вечной жизни» (Соловьев 1990: 633).
Само собой разумеется, что для Соловьева таким подлинным «сверхчеловеком», действительным победителем смерти является Иисус Христос. Но, как замечает философ, если бы и не было перед нами действительного «сверхчеловека», то во всяком случае есть сверхчеловеческий путь, на конце которого — «полная и решительная победа над смертью» (Соловьев 1990: 634).
Соловьев убежден, что настоящий критерий для оценки всех дел и явлений в этом мире состоит в следующем: «насколько каждое из них соответствует условиям, необходимым для перерождения смертного и страдающего человека в бессмертного и блаженного сверхчеловека». Поэтому когда люди благодаря Ницше начинают заявлять: «я сверхчеловек», «мы сверхчеловеки», — то эти заявления должны радовать уже потому, что они открывают возможность интересного и серьезного разговора — о делах сверхчеловеческих (см.: Соловьев 1990: 634).
Как всякая мифология, религия содержит в себе реальные истины, которые зачастую игнорируются светской философией. Религиозные образы и символы имеют свой глубокий смысл, причем идея бессмертия не является исключением. Однако ее адекватная интерпретация невозможна в рамках идеи сверхчеловека. Сущность человека и его деяний нельзя ясно разглядеть в свете данной концепции.
Ф. Ницше совершенно прав, когда указывает, что «в человеке тварь и творец соединены воедино». Однако он не делает из этой посылки соответствующих заключений. Он фактически расщепляет человека надвое: смертным оставляется пассивность и страдание, а активность, творчество отдаются сверхчеловеку. Это, повторим, — традиция униженного человека, предполагающая странную логику: человек должен умереть, чтобы возвыситься, спастись.
В действительности же сущность человека представляет собой реальное противоречие. В человеке неразрывно соединены смертное и бессмертное, тварь и творец, пассивность и активность, страдание и величие. Но все это — «человеческое, слишком человеческое».
Люди привыкли по большей части только страдать и потому решили, что они всецело состоят из одного страдания. А некоторые из них даже выдумали своеобразную эстетику страдания. Поэтому неудивительно, что на фоне сплошного страдания редкая творческая индивидуальность представляется чем-то запредельным, надчеловеческим, кажется некоей ирреальностью и именуется сверхчеловеком. Между тем именно в живом человеке заключены и страдающее, и творческое начало. Причем страдание без творчества не возвышает, оно не спасает наши души, оно их разрушает. В свою очередь творчество без страдания и сострадания превращает индивида в не-человека, в сверх-человека, одним словом, в постчеловеческое существо. Страдание и сострадание очеловечивают творчество, устанавливают ему меру.
В заключение мы снова апеллируем к Максу Шелеру. Он цитирует Гратри, который написал: «Не только каждый в отдельности, но и все человечество может кончить и как святой, и как негодяй, в зависимости от того, чего оно хочет». И далее поясняет: человек есть существо, сам способ бытия которого — это «все еще не принятое решение о том, чем оно хочет быть и стать» (см.: Шелер 1994: 105).
По Шелеру, если и должно быть имя у идеала, то идеал для человека — это «всечеловек», а не «сверхчеловек», задуманный уже с самого начала отдаленным от массы и всякой демократии. «Сверхчеловек, как и недочеловек, должен, однако, в идеале всечеловека стать человеком» (Шелер 1994: 105).
3.5. Природа человека и окончательные суждения о нем
Понимание человека как homo creans делает весьма проблематичными окончательные суждения о нем. Виды окончательных оценок разнообразны. Помимо чисто теоретических определений к ним можно отнести убийство, самоубийство, смертную казнь, пожизненное заключение, эвтаназию, войну, геноцид и прочие приемы распыления людей. Эти и другие «категорические» действия являются повседневной практикой современного мира. При этом, как правило, за грубым физическим насилием стоит изящное спекулятивное обоснование. Однако подобные вердикты недопустимы с точки зрения гуманистической философской антропологии. Существуют метафизические аргументы против каких-либо окончательных оценок личности, в том числе против смертной казни, которая справедливо трактуется как предельное отчуждение обществом «своей частицы» самым диким путем (см.: Алексеев 1989: 337).
а) Метафизический аргумент против смертной казни
Мы ничего не сумеем сделать, если не будем знать, имеем ли право убивать ближнего или давать свое согласие на его убийство.
Альбер КамюЧеловеческая мысль накопила немало свидетельств против смертной казни. Первым исторически значимым выступлением против нее считается книга итальянского юриста Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764). Автор исходит из того, что впечатление производит не столько строгость наказания, сколько его неизбежность (см.: Беккариа 1939: 308–309, 373). Он спрашивает: «Что это за право убивать себе подобных, присвоенное людьми?» По его мнению, смертная казнь не основана на праве, а является «войной нации с гражданином, считающей необходимым или полезным уничтожить его жизнь» (Беккариа 1939: 314–315).
Беккариа приводит следующие доводы в пользу отмены смертной казни. Во-первых, при спокойном господстве законов, при таком образе правления, который отвечает желаниям всей нации, нет необходимости уничтожать гражданина. Во-вторых, опыт веков показывает, что смертная казнь не останавливала преступников, поэтому она не может быть действенным средством устрашения и удержания других от совершения преступления. В-третьих, смертная казнь подает людям пример жестокости и тем самым способствует совершению новых преступлений. В-четвертых, необходимость смертной казни нельзя обосновывать тем, что она существовала почти во все времена. Человеческие жертвоприношения были в обычае почти у всех наций, но кто же осмелится оправдывать их? (см.: Беккариа 1939: 316–331).
Позже Беккариа добавил еще один аргумент: судебная ошибка при смертном приговоре, в отличие от других видов наказания, не сможет быть исправлена. Вместе с тем Беккариа считал, что бывают такие обстоятельства, при которых смертная казнь является необходимостью: когда нация возвращает или теряет свою свободу, во время анархии, когда беспорядок заменяет законы (см.: Беккариа 1939: 316; Решетников 1989: 466–467).
Русские юристы, политики и писатели, выступавшие за отмену смертной казни, не только активно использовали аргументы Беккариа, но и предлагали свои доводы. Так, Владимир Соловьев (1989: 176) доказывал, что смертная казнь есть «действие нечестивое, бесчеловечное и постыдное».
Во-первых, смертная казнь нечестива, так как по своей безотносительности и окончательности она есть присвоение человеческой юстицией того абсолютного характера, которым может принадлежать только суду Божию. Преднамеренно и обдуманно вычеркивая этого человека из числа живых, общество заявляет: я знаю, что этот человек безусловно виновен в прошедшем, безусловно негоден в настоящем и безусловно неисправим в будущем. А так как на самом деле не только о будущей неисправимости этого человека, но и о его прошедшей виновности обществу ничего вполне достоверно не известно, что достаточно доказывается многими судебными ошибками, то это есть явно нечестивое посягательство на пределы вечные и «слепое безумие человеческой гордости», ставящей свое относительное знание и условную справедливость на место всевидящей правды Божественной.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Опыт философской антропологии"
Книги похожие на "Опыт философской антропологии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Омельченко - Опыт философской антропологии"
Отзывы читателей о книге "Опыт философской антропологии", комментарии и мнения людей о произведении.