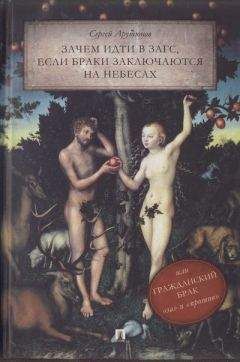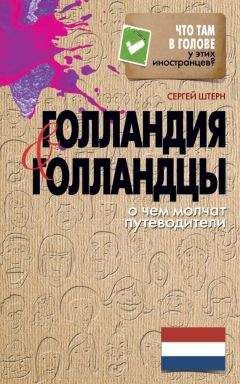Сергей Беляков - Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя
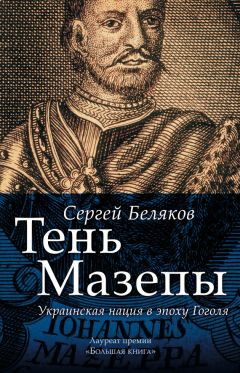
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя"
Описание и краткое содержание "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя" читать бесплатно онлайн.
Сергей Беляков – историк, литературовед, автор биографии-бестселлера «Гумилев сын Гумилева» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА»).
Соединяя дотошность историка с талантом рассказчика, в новой книге «Тень Мазепы» он совершает, казалось бы, невозможное: фундаментальное исследование, основанное на множестве источников, оказывается увлекательнее романа. Здесь гетманы вершат судьбы Войска Запорожского и слышна козацкая речь, здесь оживает в ярких запахах, звуках, красках волшебный мир малороссийской деревни, здесь биографии великих писателей и поэтов – даже Шевченко и Гоголя – лишь часть общей биографии и судьбы… Здесь рождается нация.
«Я хотел доказать, что история национализма – это не сборник скучных “идейных” текстов, не история политических партий или движений, не эволюция политических программ. Это – интересный мир, полный страсти, энергии и творчества». Сергей Беляков
Но свидетельство Лукашевича отражает тот упадок национальной культуры и национального самосознания, о котором писали и Кулиш, и Аксаков, и, конечно же, Тарас Шевченко.
Україно, Україно!
Ненько моя, ненько!
Як згадаю тебе, краю,
Заплаче серденько…
Де поділось козачество,
Червоні жупани?
Де поділась доля-воля?
Бунчуки? Гетьмани?[586]
Украина, Украина!
Мать моя родная!
Только вспомню твою долю,
Душой зарыдаю!
Куда делось казачество,
Жупаны цветные?
Куда делась доля-воля,
Гетманы седые?
Сама природа как будто отзывалась на этот длительный упадок народа, еще недавно воинственного и трудолюбивого. Днепр, как известно, – символ Украины, такой же, каким стала для русских Волга, а для немцев – Рейн. В начале XIX века русские путешественники один за другим пишут: Днепр пересыхает. Падение уровня Днепра отметил Алексей Левшин в 1815 году. Будущий ученый и чиновник, он смотрел на Днепр глазами не праздного наблюдателя: природа «благоприятствовала торговле наших предков более, нежели нам», – писал он. Снижение уровня реки увеличило количество порогов, осложнило судоходность. А за пять лет до него князь Долгорукий, любуясь видами Днепра под Кременчугом, заметил: «Днепр имел бы вид величественный и прекрасный, если бы не пересекался мелями песчаными и островками так, что глаза нигде не видят большого пространства воды без помехи. Края его наполнены судами. Вся Белоруссия сгоняет по нем лес и уголья в степи и в полуостров Крым, а оттуда вверх отправляется соль»[588]. Та же картина «пересыхающего» Днепра представилась ему и в Киеве.
В снижении уровня реки, природном явлении, которое имело столь важное значение для хозяйства страны, Тарас Шевченко увидит грозный символ. В стихотворении «Розрита могила» несчастная Украина, обиженная немцами, «москалями», евреями, а также различными «перевертнями» и «недолюдками», жалуется:
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає…
Разумеется, ни «москали», ни евреи или немцы не виноваты ни в пересыхании Днепра, ни в упадке украинского народа. Кулиш винил во всем времена «безмозглой гетманщины», однако и он не был прав. Упадок только начался в эпоху Гетманщины, но не ошибки ее гетманов, не жадность старши́ны были настоящими причинами этой «депрессии». Вероятно, намного ближе к истине подошел Иван Сергеевич Аксаков. Московский славянофил, воспитанный на Гегеле и Шеллинге, он не знал термина «пассионарность». Нет никаких оснований считать его предшественником теории Льва Гумилева. Однако Аксаков был человеком умным и наблюдательным. Он знал украинскую историю, по крайней мере по сочинениям Бантыш-Каменского, Маркевича, по «Истории русов», наконец. Иван Сергеевич не мог не сопоставить подвиги степных «лыцарей» славного «низового войска» с мирной, бедной, тихой жизнью их праправнуков. Аксаков сделал вывод, который и сейчас не кажется устаревшим: «Малороссиянин <…> будто отдыхает от совершённого подвига после напряженной исторической деятельности, еще будто не пускает в ход своей внутренней силы»[589].
Часть V
Нация и ее боги
Нация и ее боги
Современная наука противопоставляет религию и нацию[590]. В Средние века люди делились по конфессиям, в Новое время – по нациям. Одно исключает другое. Теоретически это так. Вера в Пресвятую Троицу и Второе пришествие Христа стоит выше национальных различий. Спасение души – важнее национальных интересов. Единство нации ничто перед братством во Христе. Ислам, строгое единобожие, тем более отрицает национальную идентичность и разделение мира на этносы, нации. В умме – всемирной мусульманской общине – все люди братья.
В древнем мире у каждого народа был свой бог или, гораздо чаще, свои боги. Им молились об урожае, о приплоде скота, их просили защитить от врага, даровать победу в битве. Вера в единого трансцендентного Господа, Творца неба и земли, должна была без остатка уничтожить эти суеверия. Если бы всемирная история проходила на страницах священных книг и богословских трактатов, то о нации и этносе можно было бы забыть еще полторы тысячи лет назад. На самом деле история мировых религий наполнена противоречиями между всемирным и национальным.
Проще было иудеям. Они сохранили свою древнюю этническую религию, даже преобразив, реформировав, приспособив к изменившемуся миру. Во времена «Исхода» и «Книги Судий», видимо, не отрицалось существование других богов, они просто рассматривались как чужие и враждебные народу Израиля. «Чужим богам – не поклоняйтесь! Ибо Господу имя – Ревность! Он – Бог Ревнивый!» (Исх. 34: 14)
Перед началом новой эры преображенная иудейская религия уже считала Господа единственным, а народ Израиля – избранным народом единственного Бога. И в XIX веке, как и во времена Давида и Соломона, как при Вавилонском племени и при строительстве второго храма, евреи взывали к помощи Господа и верили, что он покарает их врагов. Разделить здесь религиозное и национальное чувство почти невозможно.
Распространение христианства и даже ислама не привело к исчезновению этнического разнообразия. Древние этнические боги тоже не исчезли. Они только замаскировались, спрятавшись за лики христианских святых. Спасение души спасением души, но ведь люди продолжали жить на земле, в реальном мире, далеком от богословских представлений. Надо было по-прежнему спасать урожай от засухи, от града или дождей, беречь скот от падёжа, дом – от пожара и землетрясения. И, конечно же, перед войной просто необходимо заручиться поддержкой высших сил, даже если война объявлена братьям во Христе. Различные формы двоеверия процветали не только в православных, но и в католических странах. Новая вера приспосабливалась под старые задачи, «национализировалась». Святой евангелист Марк оказался небесным покровителем Венецианской республики, святой Андрей – Шотландии, святой Георгий – Англии, святой Савва – Сербии[591]. Русские, поляки, хорваты поверили, что им особо покровительствует сама пресвятая Богородица. Даже Пушкин упоминал «Русского Бога». Профессор Погодин, пересекая русско-австрийскую границу на западной Украине, «помолился Русскому Богу на свою сторону, и, перекрестясь, переступил черту»[592]. А крестьяне на Киевщине еще в XVIII веке обращались к Богородице – «матери русского края»[593], при этом «русским краем» считали именно свою землю.
Протестантизм, казалось, отбросил накопившееся за Средние века суеверия и вернулся к первоначальному христианству. Но и он оказался почти сразу же национализирован. И дело было не только в переводах Священного Писания на народные языки. В Англии эта «национализация» религии началась уже в XVI веке. В 1559 году будущий епископ Лондона Дж. Эйлмер прямо писал: «Бог – англичанин» и призывал соотечественников благодарить Его «семь раз на дню» за то, что они родились англичанами, а не итальянцами, французами или немцами. «Бог и его ангелы» сражаются на стороне Англии «против ее иностранных врагов»[594].
Джон Фокс, автор монументальной «Книги мучеников»[595], второй книги (после Библии) по значению и популярности среди пуритан, искренне полагал, будто «Англия заключила Завет с Богом, что она всегда была предана истинной религии в прошлом, а ныне возглавляет мир в реформационном движении, поскольку ей покровительствует Бог»[596]. Во времена Кромвеля и Английской революции идея об Англии как новом Израиле станет общепринятой у пуритан.
Такое же, если не большее, влияние оказывало католичество на испанцев и поляков, православие на греков, сербов, русских, украинцев. Религия вошла в жизнь народов, стала неотъемлемой частью этнической традиции. При этом значение имела именно национально-религиозная традиция, обрядность, ставшая частью национальной культуры, а вовсе не догматика. Простые люди в догматику редко вчитывались и вдумывались. Поляки, после недолгого увлечения протестантизмом, затронувшим аристократию, вновь стали добрыми католиками, и в XVII веке с оружием в руках сражались за католическую веру против мусульман (татар и турок) и православных (украинских козаков и русских-москалей). Между тем грамотных и разбиравшихся в религиозных вопросах людей было мало, несмотря на распространение иезуитских школ. Малограмотные шляхтичи и даже аристократы слабо разбирались в богословских вопросах. У поляков в середине XVII века была шутка, будто во всей Речи Посполитой всего три Библии: у короля, у примаса[597] и в аристократической семье Остророгов, известной своим благочестием[598].
Католичество так прочно соединялось с польской идентичностью, что Богдан Хмельницкий и его козаки прямо называли католицизм «ляцкой верой»[599]. Переход в католичество означал и смену национальности. Знаменитый Ярема (Иеремия) Вишневецкий, один из богатейших магнатов Речи Посполитой, представитель старинного западнорусского рода, родился в православной семье и, разумеется, был крещен по православному обряду. Но его отец, Михаил Вишневецкий, погиб, когда Яреме исполнилось четыре года. Еще через три года умерла и мать, Раина Могилянка, двоюродная сестра Петра Могилы. Поэтому воспитывался Ярема Вишневецкий в семье опекунов, ревностных католиков, учился во Львовской иезуитской коллегии и в католических университетах Рима, Падуи, Болоньи[600]. В 1631 году он перешел в католичество и со временем превратился в злейшего врага православия и тех русинов, что посмели восстать против польского гнета. При Берестечке он командовал кавалерией и был фактическим организатором этой крупнейшей победы над войсками Хмельницкого. Львовская летопись точно определит национальную принадлежность Иеремии Вишневецкого: «з руського поколiння лях»[601].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя"
Книги похожие на "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Беляков - Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя"
Отзывы читателей о книге "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя", комментарии и мнения людей о произведении.