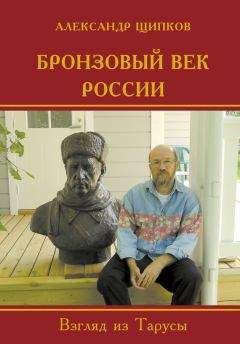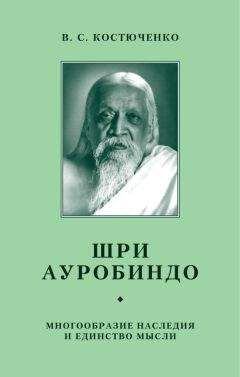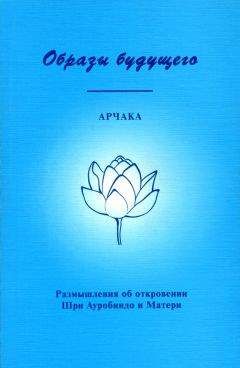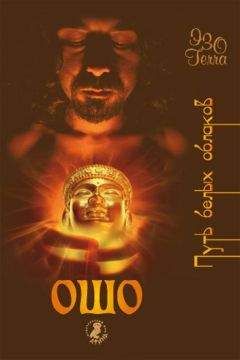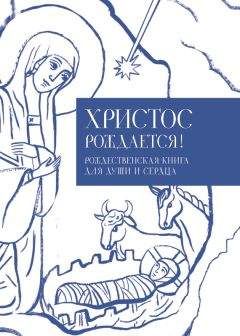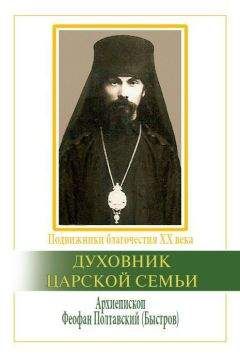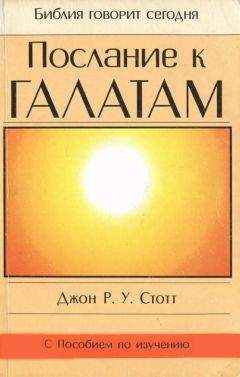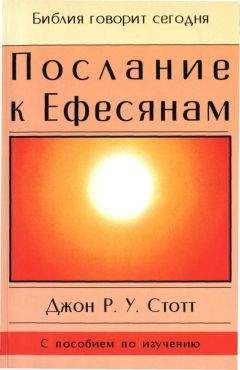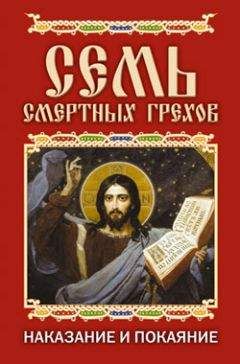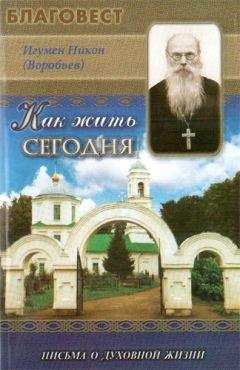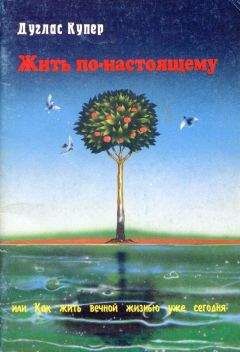Карен Свасьян - …Но еще ночь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "…Но еще ночь"
Описание и краткое содержание "…Но еще ночь" читать бесплатно онлайн.
Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..
5.
Этому устоявшемуся, на все лады опробованному (чтобы не сказать, усвоенному) безумию русская история последних двух десятилетий противопоставила новое и во всех смыслах нелепое. Речь уже шла о пересадке не того или иного органа, а самой головы. Как если бы в ответ на грезы гоголевской девицы: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича», некий демон-шутник взял, да и поменял сразу всю голову. К тому же на такую, которая никак — ни генетически, ни морфологически — не соответствует туловищу. Парадокс русской (а по сути, и всякой другой) демократии в том, что она несовместима с народом. Народ, как понятие и реальность, тоталитарен, и, чтобы приспособить его к демократии, нужно лишь перевести его в разряд номинализма, после чего, потеряв целостность и став суммарностью, он котируется уже не как народ, а как население , в опции повторно-разовых хождений к урнам. Между тем, понятый реалистически, он не суммативен, а репрезентативен, не: все до одного, а: все, как немногие . Народ и есть немногие, в идеале, один , которого видят не когда находят его среди многих, а когда воспринимают многих через него. Говоря арифметически: число именно потому и слагается из суммы единиц, что само предваряет эту сумму, как бы деля себя на нее, чтобы через сложение заново восстановить свою первоначальную целостность. Оттого считают не народ, а население, которое есть статическая функция от народа и относится к народу, как сумма букв к слову или сумма тонов к мелодии. И когда их смешивают (скажем, в выдуманном каким-то шутником народонаселении ) — а не смешивать нельзя, потому что на смешении и стоит демократия, — то смешивают, по существу, меньшинство и большинство, в результате чего меньшинство оказывается гомогенным с большинством. В числе бюллетеней, извлеченных из урн, голос Александра Сергеевича Пушкина подсчитывается, а главное, учитывается наряду и наравне с голосом попа (он же купец Остолоп) и работника его Балды. Своеобразие голосования в том, что Пушкин и Балда не только выбирают, но и выбираются, и что, выбирая между Пушкиным и Балдой, большинство, по понятным причинам, всегда предпочтет балду, который, как предпочтенный, окажется-таки среди избранного меньшинства балбесов и дуботрясов. Социологи делают всё от них зависящее, чтобы придать ситуации когнитивную солидность. Выясняется, что народ — это не просто население, а некая система , основанная на саморегуляции, самоорганизации и информационности. Система носит имя общество , в котором место vox populi занимает общественное мнение, соответственно: место духа народа — институты общественного мнения. Если учесть, что антитоталитарный пафос демократии и либерализма есть лишь изнанка тоталитаризма, причем в гораздо более опасной (поскольку замаскированной и неосознанной) форме, то становится понятной болезненная нетерпимость, чтобы не сказать, агрессивность, с которой демократические идеологи отстаивают плюрализм мнений и толерантность. Редукции к tabula rasa и новой редакции подлежат сегодня не только эфемерности дня, но и практически всё нерукотворное, всё, что вечнее меди (aere perennius): от языка, которому вменяется в обязанность выражать уже не дух народа, а мелкого беса политической корректности, до морали, перестраивающей себя в строгом соответствии с максимой шекспировских ведьм: «Fair is foul, and foul is fair» (прекрасное безобразно, а безобразное прекрасно), и дальше: до требований включить Библию в индекс запрещенных книг, «вследствие проповедуемых в ней идей геноцида, расизма, антисемитизма, антиконституционности и прочих извращений». Это чистейшей воды фундаментализм, отличие которого от фундаментализма исламского заключается, пожалуй, в том, что ему не хватает ни ума, ни мужества осознать себя в качестве такового.
6.
Можно — с оглядкой на ницшевскую «Генеалогию морали» — воспроизвести механизм фабрикации этих новых идеалов в следующей цепи уточнений: народ (фактически: население), население (фактически: общество), общество (фактически: общественное мнение), общественное мнение (фактически: институты общественного мнения), институты общественного мнения (фактически: проплачивающая их группа мечтателей-филантропов)… Интереснее всего то, что девальвация понятия «народ» и, как следствие этого, постепенное исчезновение реальности приходится как раз на эпоху расцвета демократии и либерализма. После 1945 года народ, как понятие и реальность, — едва ли не решающий пробный пуск демократических механизмов, степень эффективности которых определяется степенью его замены голой статистикой «душ» , или «голов» , населения. В качестве испытательного, и показательного, полигона европейской демократии была выбрана — кто бы мог сомневаться — начисто выбомбленная послевоенная Германия. Успех пуска ошеломил даже экспериментаторов. Мог ли бард и рэпер Брехт представить себе, что его фраза: «Kто в наше время вместо народ говорит население , тот во многом уже не поддерживает ложь»[202], получит наглядность в восстановленном здании Рейхстага, в северном внутреннем дворе которого будет установлена инсталляция с огромными буквами «Der Bevölkerung» (населению), в пику к сохранившемуся на западном портале прежнему вильгельмианскому: «Dem deutschen Volke» (немецкому народу)! Понятно, что о пробе этого рода в России не могло быть и речи. Демократией в России никогда не пахло: ни теоретически, ни практически, никак. Министр Уваров, формулируя три начала, «которые составляют собственность России… и без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить», опирался на тысячелетнюю почву византизма и был донельзя далек от «столичных мальчиков» ельцинского разлива, которые, вдрызг начитавшись своих Делёзов и Деррида, с похмелья принялись генерировать русскую идею, с похмелья же востребованную их лихим президентом. Как если бы даже в России было в порядке вещей за просто так предпочесть православию рубку икон или пляску у алтаря, самодержавию нетрезвого кингконга, поющего частушки, а народности социологические опросы. Даже большевики с их неистовствующим атеизмом упраздняли, как известно, лишь внешнюю символику и атрибутику, не только не выпадая при этом из силового поля трех названных начал, но и даже потенцируя их до предела, того самого, после которого пружины теряют упругость, а идеи — вменяемость. Они лишь осовременивали их, поняв, как никто, что третий Рим, чтобы стать реальностью, нуждается не только в номенклатурной новизне, но и в новых мимикриях, сообразно злобе дня. По модели: православие-самодержавие-народность плюс электрификация всей страны. Большевизм был в этом смысле лишь более адекватным византизмом, не только вставляющим время обратно в пазы, но и синхронизирующим его в отдельных точечных симультанностях, вроде египетской мумии в центре Москвы и байконурского космодрома.
7.
Всё, что случилось после, можно было бы назвать выпадением из жанра, как из окна. Еще перестройка вполне вписывалась в топику типично русских смут сверху, но жанр вдруг пошел по швам, когда за сплошными джиннами свобод и головокружений перестали замечать бутылку, из которой они были выпущены. С марксизмом всё было куда проще. То, что Маркса просто лишили его лондонской прописки и переселили в Скотопригоньевск, было хоть и неожиданной по видимости, зато вполне последовательной на деле реализацией его наиболее заветных и сокровенных потенций. Буржуазные марксисты могли кипеть от негодования при виде этого вопиющего произвола, как закипел бы, по всей вероятности, и сам Маркс, доживи он до происшедшего, но что значили бы все эти выхлопы субъективности по сравнению с объективным фактом становления Маркса более последовательным, а главное, более законченным самим собой: Шигалевым . Переход к гражданскому обществу и рыночной экономике модулировал, как ни странно, в петровскую тональность. России — во второй раз после Петра — не терпелось стать целиком и полностью Европой; после наспех проведенной перестройки, которая, по сути, была не чем иным, как сменой лозунгов и плакатов (читай: болтовней), началась пересадка : диковинный эксперимент социал-мичуринцев, вознамерившихся скрестить хоругвь с либертарианством и выращивать протестантские культуры на православном камне веры. Эти начитавшиеся в свое время Макса Вебера шестидесятники ухитрились упустить из виду очевидное: чтобы капитализм возникал из духа аскетической этики, а не из разбоя вчерашних комсомольских выскочек, выскочивших вдруг из своих закрытых партийных кормушек в «закрома родины» , потребовалась бы, как минимум, религиозная реформация с заменой православия трансплантатом кальвинизма. Сказанное проясняется на следующем бесхитростном сравнении. Когда американский президент в кампании своих советников и министров молится у себя в кабинете, это понятно и даже естественно. Молитва здесь просто некий условный поведенческий рефлекс, приобретенный в повторяемости пресвитерианских практик. Пуритатин-баптист молится по бихевиористской схеме «стимул-реакция», то есть по привычке, на которой он сидит как на игле. В равной степени понятно и даже естественно, когда он делает это перед камерами. Под countdown оператора, так сказать: три, два, один, поехали! В Америке даже история делается лишь постольку, поскольку её снимают на камеру. Но когда в России православные службы отстаивают у алтаря первые лица, это уже никакая не молитва, а просто биеннале и постмодерн. Жорж Клемансо сказал однажды об Америке, что эта страна перешла от варварства к декадентству, минуя культуру. Похоже, Россия намерена и здесь обогнать Америку. Коан по-русски: как можно сойти с ума, не войдя в него. Европа в 18 веке — время скепсиса, пресыщенности и просвещения. Она же за пять, шесть веков до этого — время соборов, рыцарства и крестовых походов. В безумной затее Петра России выпала участь впрыгнуть в европейское просвещение, перепрыгнув через европейское средневековье. Как если бы у послушника отобрали Четьи-Минеи и заставили его читать «Порнограф» Ретифа де ла Бретонна. Но Петр — победитель, и в политической теологии двойного тела короля деяния его «политического тела» затмевают провалы его «естественного тела» , вроде тех, к примеру, о которых с такой мстительной иронией повествует граф фон Мантейффель[203]: «Он превзошел себя. За столом он не отрыгивал, не пускал громко ветры, не ковырял в зубах, по крайней мере, я ничего не видел и не слышал», а для того чтобы подать руку царице, «он надел перчатки, впрочем достаточно грязные». Можно, конечно, гадать, как обстоят дела по этой части у нынешних реформаторов. Но только слепой стал бы оспаривать, что «политическое тело» (каким его придумали юристы елизаветинской эпохи, а в наше время столь блистательно описал Эрнст Канторович[204]) сегодня легче можно найти у футболистов, боксеров, портных, эстрадных поп-, или топзвезд, чем у собственно политиков.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "…Но еще ночь"
Книги похожие на "…Но еще ночь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карен Свасьян - …Но еще ночь"
Отзывы читателей о книге "…Но еще ночь", комментарии и мнения людей о произведении.