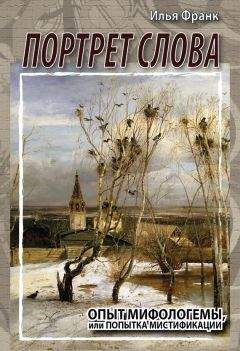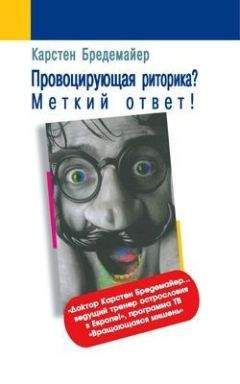Илья Кукулин - Машины зашумевшего времени

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Машины зашумевшего времени"
Описание и краткое содержание "Машины зашумевшего времени" читать бесплатно онлайн.
Эта книга — попытка заново выстроить историю русского модернизма через историю монтажа. Развитие монтажа в культуре XX века получило мощный импульс после изобретения кинематографа и превращения его в модный вид искусства. Аналоги киномонтажа в 1920‐е годы сложились в других видах искусств — литературе, плакатной графике, театре. У разных авторов и в разные периоды он используется то как локальный прием, то как последовательный метод, то как целостная эстетика. В 1930–2000‐е годы монтажные методы неоднократно изменяли свои функции и семантику. Следя за тем, как они от десятилетия к десятилетию то становятся почти незаметными, то вновь используются в самых разных контекстах, можно увидеть принципиально новые сюжеты в развитии искусства конца XIX–XXI веков, от Стефана Малларме до интернетных коллажей, составленных из блоговых заметок и видеозаписей. Эта книга рассказывает о том, как монтаж сначала стал «стилем эпохи» 1920‐х годов в самых разных странах (СССР, Германия, США…), а после все больше оказывался нужен неподцензурной словесности и «альтернативным» направлениям в кино и визуальном искусстве. Среди героев книги — Дзига Вертов и Артем Веселый, Сергей Эйзенштейн и Александр Солженицын, Эль Лисицкий и Саша Соколов, Энди и Лана Вачовски и Павел Улитин.
Рейсер включает Щёголева в составленный им список авторов книг-монтажей, но не обращает внимания на специфику его работ — возможно, потому, что, как вообще было свойственно большинству формалистов в период расцвета движения, он мало интересовался прямыми связями между литературой и политикой[568]. Монтажи Щёголева охватывали область «быта» политических элит и спецслужб (если использовать современную терминологию). Включенные в его книги высказывания представляли разные личные взгляды на политические события, в том числе закулисные.
Культурософская модальность опиралась на стремление части интеллигентов 1920-х годов понять, как человек может противостоять давлению социально-исторической среды; это стремление манифестировано во вступлении к роману Ю. Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Документальная реконструкция литературного быта в этих условиях приобретала политический смысл: она позволяла проследить выживание культуры через сохранение независимости ее акторов. Смысловым центром таких сборников становилась частная личность.
Успех книг-монтажей после «великого перелома» в 1929 году имел уже во многом ностальгическую и скрыто-нонконформистскую природу — читатели тосковали по независимым структурам производства смысла, оставшимся в прошлом.
Жанр разоблачительного политико-пропагандистского монтажа, изобретенный Щёголевым, в 1930-е годы мутировал и стал важным элементом официальной пропаганды. Издавая такой сборник, советские идеологи либо говорили о дореволюционной истории, либо ставили себя в ретроспективную позицию судьи, привлекающего тщательно подобранных свидетелей уже совершенного преступления (сборники военных лет). Роль обвинителя «передоверялась» идеологизированным или тщательно «отфильтрованным» документам, которым приписывалась способность быть «объективными». Таким образом, монтаж текстов в таких сборниках чем дальше, тем больше выполнял функцию цензуры, отсечения всего «неудобного».
Монтажные книги по истории литературы в 1930-е готовили в первую очередь те же авторы, кто создал этот жанр десятилетием раньше. Например, к торжественно отмечавшемуся в СССР юбилею смерти Пушкина (1937) В. В. Вересаев подготовил двухтомную композицию «Спутники Пушкина», составленную в 1934–1936 годах. В том же году в больших и малых городах и селах СССР ставились многочисленные «монтажи» — разложенные на голоса рассказы о биографии поэта с вкраплениями стихотворений. Сценарии таких «монтажей» печатались в газетах и журналах[569]. Этот жанр возник еще в 1920-е годы, но с начала 1930-х удерживался в советской публичной сфере прежде всего как важный элемент празднеств по случаю юбилеев писателей или иных выдающихся деятелей.
И профессиональные филологи, и даже историк-популяризатор Щёголев отзывались о творениях Вересаева неизменно скептически, считая их не слишком удачными с собственно научной точки зрения[570]. Но «монтажные» книги 1920–1930-х оказали влияние не столько на науку, сколько на общественное сознание. Первоначальной функцией таких книг была десакрализация исторических фигур и демифологизация разного рода тайных политических интриг, но в 1930-е годы косвенным последствием выхода таких сборников оказывалась сакрализация культуры. Многочисленные персонажи этих книг оказывались прославленными или, напротив, демонизированными в силовом поле центральных персонажей, литературных кружков или культурных движений. Особое, подчеркнутое значение приобретали их повседневные поступки, вкусы, привязанности. Результат подобной сакрализации ясно описан Анной Ахматовой в ее «Слове о Пушкине» (1961):
Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий[571].
С самых первых месяцев войны И. Эренбург выработал новый жанр — статьи-коллажа из комментированных цитат из дневников и писем гитлеровских солдат и офицеров. Эти коллажи призваны были показать советскому читателю убожество духовного мира тех, кто вторгся на территорию страны. Эти статьи-коллажи — но с инверсией цели, от насмешки к оплакиванию — стали одним из жанровых прототипов «Черной книги».
Статьи Эренбурга сосредоточены на текстах одного, редко троих-четверых людей. На создателей «Черной книги» повлияла память о «многофигурности» исторических книг-монтажей. Оба писателя следили за литературными дискуссиями (Эренбург — с 1910-х годов, Гроссман — с конца 1920-х) и могли помнить о книгах-монтажах с большей вероятностью, чем составители пропагандистских сборников времен войны. Но возвращение к жанру книги-монтажа, где представлены множественные точки зрения, обернулось новым отношением к исторической памяти — желанием дать слово всем, кто запомнил события Шоа, и вспомнить максимальное количество индивидуализированных жертв, уничтоженных вместе с их частной жизнью.
«Блокадная книга»: рефлексия, приглушенная соцреализмом
Жанр политических пропагандистских монтажей возродился в период «оттепели»[572]. Многие эстетические традиции 1920-х годов даже в подцензурном искусстве тогда получили новое развитие, часто — неожиданное и творческое. Однако жанр книги-монтажа был воссоздан сразу в том полуокаменевшем виде, который он приобрел ко второй половине 1930-х. Монтаж использовался в подобных изданиях для общего «оживления» картины истории, локального отхода от обобщенных, переполненных идеологическими клише исторических схем сталинского периода — но и для цензурирования, отсекания нежелательных разделов от любых документов и мемуаров, заново вводимых в поле общественного сознания. Вплоть до 1970-х годов жанр книги-монтажа воспроизводился, пользуясь формалистским языком, как совершенно автоматизированный — и с точки зрения книжной структуры, и с точки зрения методологии исторического исследования. В нем могли быть локальные новации, вроде «оттепельной» книги «Подсудимые обвиняют» (1962[573]), но в целом оптика таких книг и их общественная функция оставались приблизительно одной и той же.
Ситуация стала меняться в 1970-е, когда стали появляться подцензурные художественные произведения и беллетризованные биографии, в которых документы призваны были создавать экзотизирующий колорит эпохи, — тем самым они вступали в конфликт с основным текстом по лексике, стилю и модальности и создавали композицию, подобную монтажной. Спектр функций таких документальных вставок очень сильно колебался — от откровенной условности, как в поэме Андрея Вознесенского «Авось» (1970)[574], до научно-отрефлексированного использования, как в биографии Евгения Баратынского, написанной Алексеем Песковым и возрождающей на новом уровне формалистские принципы 1920-х[575].
Перелом в отношении к потерявшему историческую динамичность жанру книги-свидетельства произошел в СССР не в русской, а в белорусской литературе. В 1975 году в Минске была издана книга, написанная в соавторстве Алесем Адамовичем, Янкой Брылем и Владимиром Колесником «Я из огненной деревни…»[576], немедленно вслед за тем переведенная и на русский язык[577]. Эта книга-коллаж содержала в себе не официальные документы, а записанные авторами свидетельства частных лиц — бывших партизан, или жителей деревень, которые были сожжены немецкой армией, отрядами СС или коллаборационистами в ходе антипартизанских операций в Беларуси во время Второй мировой войны.
Короткие фрагменты воспоминаний авторы «прослаивали» обширными историческими идеологизированными комментариями. Свой метод они описывали так:
Правда этих рассказов — прежде всего психологическая. Что и как было с ним самим, как чувствовал, воспринял, видел он это сам, — человек помнит настолько точно, что правда эта не только убеждает тебя, но звучит… просто невыносимо.
[…]
Психологическая правдивость этих рассказов — немалая гарантия и всякой другой точности, фактической — также. Здесь возможны, понятно, и ошибки, провалы памяти (когда что происходило, фамилии людей, последовательность событий). В таких случаях мы старались уточнять рассказы[578].
По своей исторической концепции книга полностью соответствовала сложившемуся к 1970-м годам канону изображения Второй мировой войны в советских литературах[579], но у нее было несколько особенностей. При всей общей сглаженности и идеологизированности стиля, авторы все же попытались передать различия в личных манерах высказывания разных «героев» книги:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Машины зашумевшего времени"
Книги похожие на "Машины зашумевшего времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Илья Кукулин - Машины зашумевшего времени"
Отзывы читателей о книге "Машины зашумевшего времени", комментарии и мнения людей о произведении.