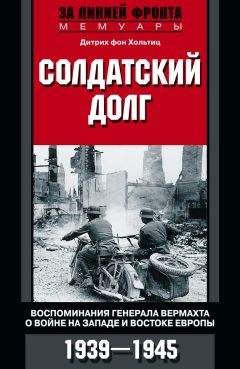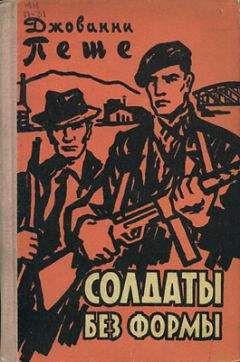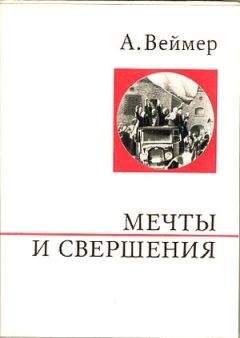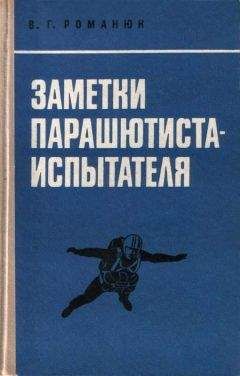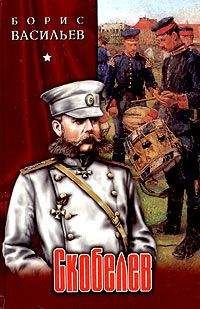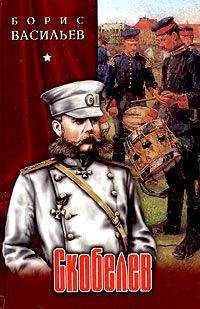Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)"
Описание и краткое содержание "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)" читать бесплатно онлайн.
Главный герой этой книги – Здравко Васильевич Мицов (1903–1986), генерал, профессор, народный врач Народной Республики Болгарии, Герой Социалистического Труда. Его жизнь тесно переплелась с грандиозными – великими и ужасными – событиями ХХ века. Участник революционной борьбы на своей родине, он проходит через тюрьмы Югославии, Австрии, Болгарии, бежит из страны и эмигрирует в СССР.
В Советском Союзе начался новый этап его жизни. Впоследствии он писал, что «любовь к России – это была та начальная сила, которой можно объяснить сущность всей моей жизни». Окончив Военно-медицинскую академию (Ленинград), З. В. Мицов защитил диссертацию по военной токсикологии и 18 лет прослужил в Красной армии, отдав много сил и энергии подготовке военных врачей. В период массовых репрессий был арестован по ложному обвинению в шпионаже и провел 20 месяцев в ленинградских тюрьмах. Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ее окончания вернулся в Болгарию, где работал до конца своих дней.
Воспоминания, написанные его дочерью, – интересный исторический источник, который включает выдержки из дневников, записок, газетных публикаций и других документов эпохи.
Для всех, кто интересуется историей болгаро-русских взаимоотношений и непростой отечественной историей ХХ века.
Моя мама, Вера Вячеславовна Курдюмова, появилась в Петрограде в декабре 1925 года. Она приехала из Рыльска по вызову своего старшего брата Жоржа, который, будучи студентом физико-технического института у профессора Абрама Федоровича Иоффе, получил комнату в институтском доме на окраине города, в Лесном.
Рыльск! Наше прибежище в трудные времена. Город, не тронутый временем. Родина мамы. Этот город обладал удивительным обаянием. На протяжении всей жизни, стоило только собраться братьям и сестрам Курдюмовым, неслось, как припев: «А у нас в Рыльске…»
– Такие темные ночи, бежишь, хочется воздух руками разводить…
– А мне – блох.
– Как пахла резеда! Как пели на Дублянке! А река Сейм!
– Как пели на Дублянке, не пели нигде!
– Таких яблок я потом не встречала!
– А помнишь: «У нас тоже был дом, но тятенька рассердился и дом разрушил»?
– А помнишь, как Жорж съехал с горки Ивана Рыльского задом наперед и папа его высек?
– Нет, его дважды секли – в другой раз, когда папа нашел в кармане крошки от махорки!
– Нас не секли!
– Сечь полезно! Единственный, из кого вышел толк!
И смех….
– А помнишь, Павлик носил язык от Вериного ботинка на груди! А как Веру Жорж посадил в яму и прихлопнул санками!
А помнишь… помнишь… помнишь…
– А Веру звали «задери нос выше»… А помнишь…
Ландыши в решете на базаре, топленое молоко в глиняных кувшинах, крынки со сметаной. Пахла лавка, где продавали керосин. Улицы поросли ромашкой и травой. За деревянными глухими воротами – сады. И, вслед за Курдюмовыми, я повторяю:
– Как пахла трава в Рыльске!
Всю жизнь потом я пыталась уловить этот запах. В Черноголовке, где я живу, на лесных полянах, у нас на даче, во время плавания на байдарках по рекам, протекавшим неподалеку от Рыльска… Ничего подобного. Я уже было решила, что этот запах – плод моего детского воображения. Но вот недавно, приехав в Зубец, что в верховьях Волги, встав ранним утром, я пошла в церковь, видневшуюся за высоким висячим мостом. Подходя к мосту, я вдруг уловила знакомый запах. Огляделась. Поднялась на пригорок, приблизилась к маленьким домикам, стоявшим на такой же, как в Рыльске, покрытой травой улице. Пахла ромашка. Маленькая, мохнатая ромашка, около таких же, как в Рыльске, одноэтажных побеленных домов.
Как все близко! Это только поначалу кажется, что Пушкин жил ох как давно… А посчитать – моя прапрабабушка, Елизавета Карловна фон Ланге, была его современницей.
В широком шелковом платье сидит она в кресле с высокой спинкой. Женщина лет шестидесяти. Одна рука опирается на маленький столик, другая свободно скользит по плотному темному шелку. Она смотрит на меня. Лицо суховато и строго. Ее кровь течет во мне. Думала ли она, что через сто пятьдесят лет кто-то будет жадно вглядываться в ее лицо, стараясь прочесть характер? Хотелось ли ей этого? Мучила ли ее неизвестность после смерти? Я вглядываюсь в лицо и вижу строгую сдержанность, властность, и проступает черта, свойственная всем последующим поколениям, – честность и достоинство.
Она не похожа на немку, хотя в твердости характера, может быть, есть что-то остзейское. Елизавета Карловна – урожденная баронесса фон Ланге. Муж – Андрей Драевский. Это все, что о нем известно[7]. На замкнутом лице Елизаветы Карловны – боль. Боль в поджатых губах и строгих глазах. Вот и еще одно качество – стойкость. Терпеливо, молча, с достоинством, она выполняла свой долг. Но откуда приглушенная боль? Разочарование? Значит, были мечты, желания… На оборотной стороне фотографии надпись: «Моим милым и дорогим Леночке и Константину Павловичу. 1871 г., 29 июня». Печать: «Фотография Вяткина в Казани». Леночка – это моя прабабушка, Елена Андреевна, Константин Павлович – мой прадедушка.
Прабабушка Елена Андреевна не дожила до моего рождения всего два года – а родилась она при Николае I, пережила Александра II, Александра III, Николая II, Февральскую и Октябрьскую революции! Время, эта таинственная субстанция, наряду с неумолимым ускорением, которое мы печально замечаем с возрастом, преподносит нам дорогой подарок: дни, годы, столетия прошлого становятся все ближе… и вот уже до Пушкина рукой подать, а Толстой – просто наш современник: жил при моей маме.
Елизавета Карловна фон Ланге родила трех дочерей: Екатерину, Елизавету и Елену[8]. Каждой было дано хорошее приданое. У Екатерины в то время было поместье в Полтавской губернии. Про Елизавету мне ничего не известно (кажется, рано умерла от туберкулеза). Приданое Елены промотал Константин Павлович Орловский.
Константин Павлович, красивый, статный офицер, с русыми кудрями, с огромными голубыми глазами, чуть надменными и страстными, веселый и бесшабашный, лихой картежник, увез девушку из родительского дома. Но Елена Андреевна была счастлива. Иначе откуда до самой старости эти смеющиеся ясные глаза?
Исчезновению родословных мы обязаны электричеству и телевизору. За цивилизацию мы заплатили семейными преданиями.
В этом отношении мне повезло. Долгими зимними вечерами, когда между ужином и сном оставалось несколько часов, сами собой шли воспоминания, одно тянуло за собой другое. Во время Великой Отечественной войны в Рыльске, лежа при свете каганца в маленькой натопленной комнатке, где собрались остатки курдюмовской семьи – трое взрослых и четверо детей, сквозь сон слушала, что Константин Павлович был любитель женщин, разорил семью… бывало, кричал, напившись, открыв форточку: «Орловский сегодня не принимает!» И вдруг совсем неожиданно умер во сне на Пасху – как подобало бы праведнику.
– Изменял, разорил, но ведь любила она его.
– Ну, Елена Андреевна – так ведь это ангел. – Это голос моей тети, и в тоне слышится: «куда вам до нее…»
– Лег перед обедом на часок, на Пасху. «Костя, Костя» – а он уже мертвый.
– Вот уж грешник был, а умер легко. – И неприятная усмешка переходит в общий смех.
Иногда моя тетя вставала:
– Потушу каганец, нечего зря переводить масло.
Тьма была кромешная, окна заткнуты перинами и подушками. И опять шли воспоминания:
– Крепостное право… Слуги жили внизу. Елизавета Карловна вечером поднялась к себе на второй этаж, отпустила девушку и, подойдя к зеркалу, видит под кроватью мужчину…
Я замираю, страшно шевельнуться, я вижу большую комнату, кровать с пологом, большое зеркало до потолка, Елизавету Карловну в чепце и халате, со свечой в руке, а за ее спиной – черного разбойника, глядящего на Елизавету Карловну из-под кровати…
– Казань, через нее гонят каторжан…
Что делать? Закричать? Так он в одно мгновение выскочит… И она начинает ходить по комнате, переступая с носка на каблучок:
– Ох! Как холодно! Ох, как холодно!
И кутается в платок и стучит, стучит в пол: «Ох, как холодно!» А уговор был: если барыне нужно позвать слуг – она стучит в пол. Когда прибежали на ее зов, она только пальцем указала под кровать и упала без чувств…
Крепостное право… Моя прапрабабушка… Все это близко.
– А холодно там ужасно, домов нет, аул, сакли, одна стена каменная, – это уже голос моей бабушки.
Аул… сакли…
– Его, как всегда, не было дома. Елена Андреевна слышит, кто-то в дверь скребется. А рядом спала собака. Огромная. Собака старая, храпит, громко, как человек. Она и говорит: «Костя, Костя, проснись». Воры и убежали.
Моя бабушка, Ольга Константиновна Орловская, родилась в Дагестане, в Темир-хан-Шуре (ныне – Буйнакск), там служил отец. Ее нос с горбинкой, страстность, темные глаза, полная несхожесть со старшей сестрой наводили некоторых на предположение: «А не согрешила ли Елена Андреевна?»
И кто знает, почему так будоражат мое воображение породистые взмыленные скакуны, с ходящими боками, серебряные уздечки, брошенные поводья, ночной шепот под стройным уходящим в небо кипарисом, раздумчивый шелест листьев…
В Темир-хан-Шуре я искала следы Константина Павловича. Искала на кладбище. Странная затея – но это было единственным известным мне местом пребывания четы Орловских. Конечно, ничего не нашла. А была сумасшедшая уверенность, что на одном из заброшенных каменных столбов увижу надпись: Орловский Константин Павлович. Собор, в котором крестили маленькую Олю, был взорван совсем недавно – при Хрущеве. Громадный, он стоял в центре города на площади. А небольшой дом Дворянского собрания – деревянный, выкрашенный темно-зеленой краской, напоминавший больше сарай, но с крыльцом и белыми колоннами – я видела. Поднималась на ступени, трогала стены. Уж сюда-то захаживал мой прадед Константин Павлович с женой Еленой.
Бабушка, Ольга Константиновна, была бесприданницей. На фотографиях того времени – красивая, затянутая в корсет девушка с капризным, несколько делано несчастным лицом. В Рыльск попала случайно, по дороге на Кавказ «к дяде генералу». Сейчас я предполагаю, что ехала бабушка к своему дяде, Дмитрию Андреевичу Драевскому (1831–1903), генерал-майору, жившему в Тифлисе (брату ее матери Елены Андреевны). Остановилась у дальних родственников, Утехиных. Бездетная пара – «Санчик и Манчик». Сам Утехин был директором Рыльской семинарии. С пылом незанятого доброго сердца занялась бездетная чета устройством судьбы Олечки. И вскоре вместо Кавказа и дяди-генерала осталась бабушка в Рыльске, выйдя замуж за только что окончившего семинарию очень красивого священника Вячеслава Григорьевича Курдюмова.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)"
Книги похожие на "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)"
Отзывы читателей о книге "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)", комментарии и мнения людей о произведении.