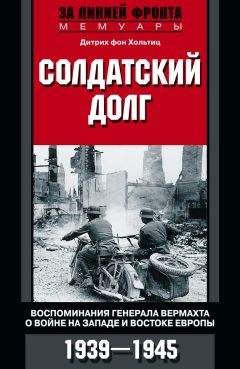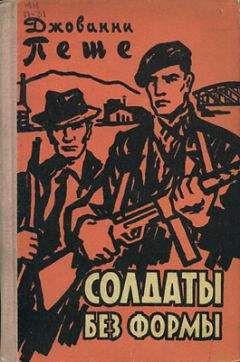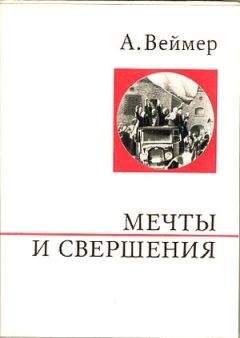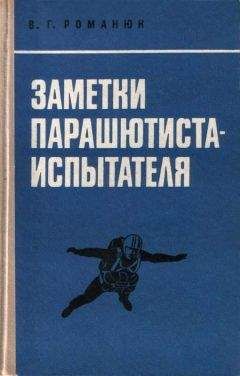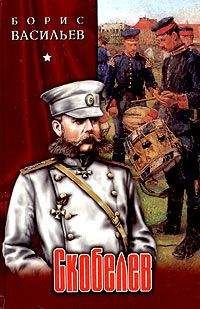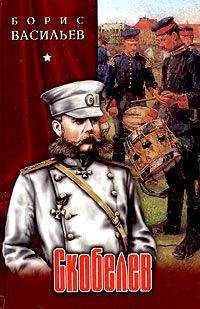Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)"
Описание и краткое содержание "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)" читать бесплатно онлайн.
Главный герой этой книги – Здравко Васильевич Мицов (1903–1986), генерал, профессор, народный врач Народной Республики Болгарии, Герой Социалистического Труда. Его жизнь тесно переплелась с грандиозными – великими и ужасными – событиями ХХ века. Участник революционной борьбы на своей родине, он проходит через тюрьмы Югославии, Австрии, Болгарии, бежит из страны и эмигрирует в СССР.
В Советском Союзе начался новый этап его жизни. Впоследствии он писал, что «любовь к России – это была та начальная сила, которой можно объяснить сущность всей моей жизни». Окончив Военно-медицинскую академию (Ленинград), З. В. Мицов защитил диссертацию по военной токсикологии и 18 лет прослужил в Красной армии, отдав много сил и энергии подготовке военных врачей. В период массовых репрессий был арестован по ложному обвинению в шпионаже и провел 20 месяцев в ленинградских тюрьмах. Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ее окончания вернулся в Болгарию, где работал до конца своих дней.
Воспоминания, написанные его дочерью, – интересный исторический источник, который включает выдержки из дневников, записок, газетных публикаций и других документов эпохи.
Для всех, кто интересуется историей болгаро-русских взаимоотношений и непростой отечественной историей ХХ века.
Военно-медицинская академия[5], занимавшая несколько кварталов вдоль Невы, поразила папу внушительной старинной архитектурой. Папе посчастливилось застать и преподавателей старого поколения – потомственных русских интеллигентов, умных, образованных, принципиальных, верных традициям…
Возможно, папа не сразу осознал и сумел оценить нравственную высоту своих профессоров. Конечно, он понимал, что это не «красные борцы». Но его дальнейшая жизнь и деятельность показали, что он как личность сформировался именно в культурной среде академии.
«Меня многое удивляло на первом курсе», – пишет папа. Он изумился, узнав, что знаменитый ученый-химик, доктор медицины А. П. Бородин оказался и великим композитором, одним из создателей русской классической симфонии, автором известной оперы «Князь Игорь». Руководитель кафедры ботаники академик В. Н. Любименко, автор учебника в тысячу страниц, экзаменовал слушателей в присутствии всей группы и, отпуская каждого, говорил: «Идите с Богом». Профессор Н. А. Холодковский, автор учебника по зоологии, энциклопедизм знаний сочетал со способностью отличного скрипача, а также с даром поэта-переводчика – его перевод «Фауста» Гете считался одним из лучших. Удивляло и то, что начальник академии В. И. Воячек, деликатный худощавый человек, был беспартийным.
Да, удивлять-то удивляло, но привычная настороженность не оставляла, и он зорко приглядывался к преподавателям, одновременно восхищаясь их работой и оценивая их отношение к происходящему в стране. Вот, например, фактический руководитель кафедры госпитальной хирургии, В. И. Добротворский, по прозвищу Вася Тёмный. Мрачный, суровый, однако как учтиво и трогательно помогает профессору Федорову пройти в аудиторию… Парторг кафедры И. А. Криворотов как-то предложил ему обсудить вопрос о соревновании, он ответил сердито: «Хватит! В прошлом году соревновались, а в этом надо работать». И вдруг на заседании Хирургического общества выяснилось, что в стране нет – и в ближайшие годы не будет – руководства по хирургии почек. Вася Тёмный заперся дома и через две недели представил руководству общества требуемый труд. Профессор С. П. Федоров, лейб-медик Николая II, с острой седой бородой и усами, носил золотое пенсне на длинной золотой цепочке… Советское правительство в это время усиленно пополняло золотой запас страны, изымая драгоценные металлы у населения. Федоров сам обратился к властям с приглашением зайти к нему домой, где и передал казне немало золота. А деликатный беспартийный Воячек? Взял и отказал итальянцам в просьбе проконсультировать Муссолини…
…В пятидесятых годах, оказавшись в Плевне, мы спускались по папиной улице, где к тому времени на месте бывшего папиного дома и сада высился четырехэтажный кооператив. В одной из квартир жила вдова папиного брата Иордана. Я, студентка Ленинградского университета, в красных туфлях на высоких каблуках, с распущенными волосами, и папа, в форме полковника болгарской армии со значком Военно-медицинской академии, быстро, легко спускались по улице летним утром. Мы направлялись к зданию старой мэрии, где в начале века работал мой дед Василий. По дороге встретился книжный магазин. Он занимал весь первый этаж большого многоквартирного дома. Продавщица, молодая женщина, улыбалась нам. На прилавке лежал роскошный альбом гравюр Остроумовой-Лебедевой. Альбом был дорогой, гравюры были напечатаны с досок, хранящихся в Русском музее. Я листала альбом, продавщица улыбалась. В магазине, весело впорхнув через открытую дверь, гуляло свежее летнее утро.
– Купи, пожалуйста, – сказала я, ничуть не сомневаясь, что папа, не раздумывая, купит, даже с удовольствием, гордясь, что у него такая дочь: не тряпки просит, а гравюры. Папа молчал, листал альбом. Он немного играл – то поглядывал вопросительно на продавщицу, то переводил взгляд на меня. Продавщица стояла в почтительном ожидании.
– Остроумова была женой Лебедева, который, между прочим, изобрел каучук, – сказала я.
– Лебедева? – воскликнул папа. – Того самого? Ты знаешь, что это был за человек! Он нам преподавал в академии! Да ты уверена, что именно его?
Альбом был аккуратно завернут в бумагу и перевязан ленточкой. До сих пор эти гравюры украшают одну из стен в моей квартире.
– Не знаю, почему, – говорил папа, выходя из магазина, – он у нас вызывал недоверие. Высокий, с бородой, он был мрачным (потом узнали, что болел почками) и молчаливым. Лекции читал тихо. Однажды зимой, в часы занятий по органической химии, нас попросили наносить снег с набережной Невы в лабораторию для поддержания низкой температуры одного из препаратов Лебедева. Тогда мы узнали, что Лебедев победил на международном конкурсе по производству искусственного каучука, объявленном Советским правительством. В конце учебного года этот беспартийный профессор прочитал нам лекцию о значении каучука в экономике империализма, подобную которой мы никогда не слышали от коммунистов-экономистов. Оказалось, что американцы предлагали Лебедеву большие деньги. Однако профессор ответил, что он русский человек и результат своего 20-летнего исследования отдаст своей Родине. Советское правительство заплатило победителю 20 тысяч золотых рублей. Профессор отказался от денег в пользу советских детей (сам он детей не имел).
Скользнув взглядом по моему лицу и решив, что это все меня мало трогает, папа остановился и, глядя мне в глаза, так же воодушевленно продолжил:
– Позже он разработал и метод для технического производства искусственного каучука, который был применен на двух специально построенных заводах… Он умер от сыпного тифа в Ярославле при одном из посещений этих заводов. Старинная улица Нижегородская, перед Военно-медицинской академией, на которую выходил боковой фасад кафедры химии и дом, где он жил, названа его именем.
Как часто мне рассказы папы казались неинтересными, докучными! Но сейчас это было не так. Безмятежное летнее утро, большой плоский альбом в правой руке, уличный фотограф, возникший перед нами, чувство, что мы причастны к чему-то сокровенному, о чем встречные догадываются, – оттого радостные улыбки при виде нас… Нет, я слушала папу с большим интересом. Я не знала, что Лебедев преподавал папе, никак не связывала улицу Нижегородскую с бесцветным названием – «улица Лебедева». Даже шестилетним ребенком я предпочитала более красивое название – «Нижегородская». Зато я знала то, чего не знал папа. Я знала, что после лекций Лебедев возвращался домой в огромную, холодную квартиру и видел безучастно сидящую в кресле свою жену, Анну Остроумову, молчаливую, закутанную в платки. Если я не ошибаюсь, у них незадолго до этого случилась трагедия – погиб ребенок. И тогда он начинал по рисунку жены резать гравюры. А затем печатать их на станке тут же в квартире…
Уже восьмидесятилетним папа написал очерк «Болгарин в ВМА», более пятидесяти страниц. Там он упоминает не только фамилии, имена и отчества своих профессоров и преподавателей, ведущих практические занятия, но и манеру одеваться, говорить, преподавать. Папа подробно перечисляет все дисциплины. На всю жизнь врезалась в память эта встреча с людьми иного склада и иного уровня, чем те, кого он знал прежде. Я бы не поверила, если бы сама не подсчитала – на этих страницах упомянуто 107 профессоров и преподавателей. И множество слушателей. А ведь он писал эти записки, неподвижно лежа в моей квартире в Черноголовке со сломанной ногой, не пользуясь никакими справочниками. Он считывал все со своей памяти. Память у папы была феноменальная. Тогда же в Черноголовке эти записки и были перепечатаны.
Я приведу некоторые отрывки из этих записок:
«Преподаватели артистично делали свое дело. До сих пор помню, как в небольшой, круто поднимающейся амфитеатром аудитории по нормальной анатомии, внизу, на лекторской кафедре, перед черной классной доской, стояла высокая и длинная коляска, покрытая снежно-белой накрахмаленной простыней. В аудиторию энергично вошел среднего роста человек в длинном выутюженном желтовато-зеленого цвета халате, с высоким застегнутым воротничком, с подстриженными седоватыми усами, в высоких сапогах. Это был профессор нормальной анатомии человека В. Н. Тонков. Он поклонился аудитории и, показывая на коляску, сказал: “Здесь лежит не труп, а объект научного исследования”, и быстро отдернул простыню. Вся аудитория громко ахнула – на коляске лежал труп… Профессор Тонков часто посещал наши практические занятия по анатомии. Когда изучали остеологию, он приходил к нам с косточкой в карманах халата. Он вынимал косточку, быстро показывал характерную ее часть и сразу прятал, задавая вопрос: “Что такое?” Или, приближаясь к кому-нибудь из нас, вынимал косточку из кармана, подбрасывал вверх и, пряча ее в ладони, спрашивал: “Какая кость?” При прохождении кровеносных сосудов и особенно мышц он у всех слушателей спрашивал латинские названия, а от меня требовал их знания по-русски.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)"
Книги похожие на "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)"
Отзывы читателей о книге "История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)", комментарии и мнения людей о произведении.