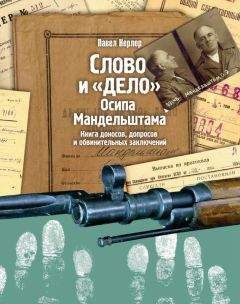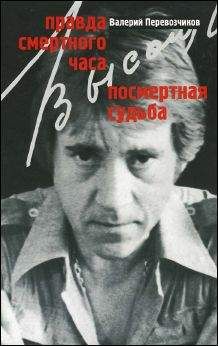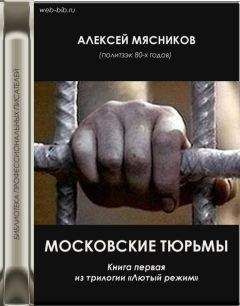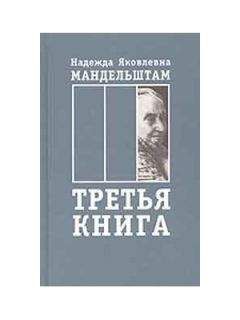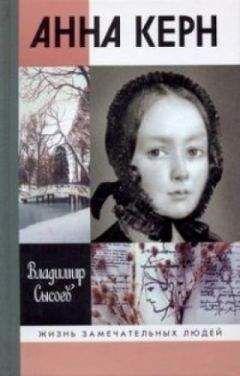Павел Нерлер - «Посмотрим, кто кого переупрямит…»

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Посмотрим, кто кого переупрямит…»"
Описание и краткое содержание "«Посмотрим, кто кого переупрямит…»" читать бесплатно онлайн.
Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980) – вдова поэта Осипа Мандельштама, писатель, автор знаменитых на весь мир мемуаров, без которых сейчас невозможно говорить о России XX века, о сталинском времени. Судьба посылала ей одно испытание за другим: арест мужа, ссылка, его смерть в лагере, бездомность, война, судьба стопятницы, бесконечные кочевые годы… И через все беды – отчаянные попытки спасти архив поэта, спасти СТИХИ, донести их до читателя. И ей это удалось.
Книга составлена из переписки Н. Я., воспоминаний о ней, свидетельств, архивных находок. И все вместе – попытка портрета удивительной личности, женщины, которой удалось «переупрямить время».
Предъявляя претензии, возможно и обоснованные, к отдельным преподавателям, которые “неохотно берутся за теоретические курсы”, предпочитая совершенствоваться в узкоспециальных областях: лексики и фонетики, отказываясь от истории языка, Глухов не оставляет попыток задеть Мандельштам и вынести ей “моральный” вердикт:
“Анализируя итоги выполнения учебного плана, следует отметить недостатки в преподавании теоретических дисциплин, в особенности по истории языка. Перестройка преподавания этой важнейшей дисциплины прошла по сути формально. Работа т. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» не положена в основу преподавания, и если в ходе лекций о ней и вспоминают, то в отрыве от программного материала. Лекции по истории языка, особенно на английском отделении, носят схоластический характер[279]. Преподаватель Мандельштам не имеет строго продуманного, методически целостного плана. Каждая лекция представляет собой отрывочные сведения, не приведенные в определенную систему и не связанную с предыдущим материалом”.
Находятся у Глухова причины упрекнуть Мандельштам и за читаемый ею курс “Перевод”, так как студенты английского отделения, переводя на госэкзамене те или иные тексты зарубежных писателей, не дают при этом “анализа исторической эпохи, социально-классовой принадлежности автора, не вскрывают положительных черт героев произведений и т. д.”.
Глухов отмечает претензию со стороны Мандельштам на руководство кафедрой. “Эта беспринципная борьба за руководство кафедрой заставила Мандельштам сколачивать вокруг себя группу единомышленников”.
В качестве примера Глухов приводит вопиющий, по его мнению, факт, когда преподаватель Аш была освобождена от работы: “Мандельштам, протестуя, добилась обратного ее приема, а вызывала к себе преподавателя Козлову и настаивала отказаться от преподавания лексики ‹…› Когда вопрос с Аш был все-таки решен и она была освобождена, Бикель предлагала запланировать на лексику или Мандельштам, или Туркину, но не Козлову или Голенко, хотя знала, что Туркина в течение года неоднократно срывала занятия, опыта у нее также нет, учебный год закончила не блестящими показателями. Эти примеры свидетельствуют о наличии беспринципной групповщины ‹…› В этом году кафедры пополнились молодыми… это поможет оздоровить обстановку”.
Насколько она была “оздоровлена” и как в этом случае повела себя “молодежь”, показывает уже протокол заседания кафедры английского языка № 13 от 11 марта 1953 года. Глухов знал свое дело.
3Итак, опальная жизнь Н. Я. Мандельштам в Ульяновском педагогическом институте началась не в 1953 году, а гораздо раньше. С большим или меньшим постоянством она продолжалась практически все годы ее пребывания в Ульяновске.
Была ли она в этих гонениях одинока? Разумеется, нет.
В то же время она была окружена не только врагами. Рядом были и другие – такие, как биолог Александр Александрович Любищев или историк Иосиф Давидович Амусин. Имена известные, не нуждающиеся в комментариях.
Что касается ее гонителей, то они в большинстве своем должны были бы кануть в небытие. Однако благодаря встрече с гонимой и им выпала “честь” всё же остаться в истории – рядом с ней. Ограничимся поэтому на их счет лишь небольшими справками, составленными на основе их личных дел.
Глухов Иван Кузьмич (1892–1962) – кандидат философских наук, с 1939 по 1941 год работал директором Ульяновского пединститута. После почти девятилетнего перерыва вернулся назад в Ульяновск, в сентябре 1950 года вновь устроился на работу в институт на ставку доцента кафедры основ марксизма-ленинизма, с 26 октября 1950 года по 1 февраля 1953 года исполнял, по совместительству, обязанности декана факультета иностранных языков. С 1959 года на пенсии[280].
Старцев Виктор Степанович (1894–1973) – кандидат географических наук, доцент, начинал свою научно-педагогическую деятельность на Урале, в вузах Свердловска и Челябинска. До выхода на пенсию в 1962 году работал в Пермском индустриально-педагогическом институте. В августе 1952 года Министерством просвещения РСФСР был назначен директором Ульяновского пединститута, одновременно исполнял обязанности зав. кафедрой педагогики. Осенью 1954 года переехал в г. Молотов (Пермь) и перевелся из Ульяновского педагогического в Молотовский, где был назначен зав. кафедрой экономической географии[281].
Тюфяков Павел Алексеевич (1907–1954) – после окончания Пермского индустриально-педагогического института работал на различных должностях в сфере школьного и высшего образования: в гороно, преподавателем-ассистентом и заведующим кафедрой литературы, помощником заведующего учебной частью вуза, деканом и т. д. Участник Великой Отечественной войны, которую закончил в звании подполковника. Летом 1950 года переехал в Ульяновск и был назначен зам. директора педагогического института “по учительскому институту” и старшим преподавателем кафедры литературы. В 1951 году, в связи с закрытием учительского института, переведен на должность заместителя директора по заочному отделению. Также непродолжительное время исполнял обязанности зав. кафедрой немецкого языка. Был секретарем партбюро факультета иностранных языков[282].
В 1971 году в газете “Русская мысль”, издаваемой в Париже, в номере от 18 февраля появилась небольшая заметка, подписанная инициалами “О. И.”: “Нас было 12 человек неугодных, увольняемых летом 1953 года из Ульяновского педагогического института. Эта группа состояла из десяти евреев, меня – русской, человека сомнительного, с советской точки зрения, происхождения и родственных связей, – и одного партийца, явно не соответствующего по своим знаниям должности ассистента; кроме того, он пил и избивал жену.
Среди увольняемых была Надежда Яковлевна Мандельштам, жена поэта Осипа Мандельштама, старший преподаватель английского языка на инфаке.
Однажды я зашла к директору института Старцеву; на столе у него лежала телеграмма, подписанная “Депутат Верховного Совета СССР Илья Эренбург”.
В телеграмме Эренбург просил не увольнять жену поэта Осипа Мандельштама. Телеграмма не помогла, и Надежду Яковлевну уволили. Все увольняемые подали заявления в высшие инстанции с просьбой отменить решение института.
В институте были оставлены: конечно, пьяница-партиец; я, как недавно окончившая, на старости лет, аспирантуру; одна еврейка, неожиданно захворавшая скарлатиной. Остальные были уволены и устроились по своей специальности в городах лучше, чем Ульяновск.
Но для Надежды Яковлевны не нашлось места ближе, чем Чита” (с. 3).
О некоторых из уволенных, не раскрывая их фамилий, Н. Я. напишет в своих “Воспоминаниях”: “Я собирала и упаковывала вещи, когда ко мне ворвалась женщина с моей кафедры ‹…› Когда выгоняли меня, она лежала в больнице. Выросла она в Галиции, жадно читала советских писателей и верила каждому слову. Приехав в Ульяновск, она долго несла зарубежно-комсомольскую чушь, хотя уже испытала репрессии-минимум – из первого вуза, где она работала, ее выгнали по пятому пункту. Она сочла это местной ошибкой, но, когда выяснилось, что пятый пункт стал центром внимания и на идиллию соцреализма полагаться нельзя, у нее вдруг открылись глаза. И сейчас – с порога – она крикнула: «Сталин умер!»”[283]
Здесь речь идет о Марте Моисеевне Бикель (1920–1994[284]), уроженке румынского города Радауцы (Радауци), где она прожила до переезда в Черновцы 14 лет. Первым вузом, в котором она работала и откуда ее, по словам Мандельштам, уволили “по пятому пункту”, был Черновицкий университет. Здесь, как видим, от увольнения ее спасла случайность – скарлатина и госпитализация. В Ульяновске Бикель проработала до 1957 года, переведясь на работу в Горьковский иняз[285].
Другим преподавателям повезло меньше: “В день, когда я уезжала и мои вещи грузили на машину, я заметила во дворе кучку народа. Оказалось, что двое с кафедры математики – муж с женой, – коротконогие евреи с кучей детей, только что горько оплакивавшие вождя, накануне ночью были сняты с работы на экстренном заседании кафедры. Оба они свято верили, чему их учили, и спокойно рожали детей, не сомневаясь, что их ждала счастливая жизнь… Не выдержав чистки, оба сошли с ума и, взявшись за руки, плясали и громко голосили во дворе. Студентам они доставили истинное удовольствие… Их увезли, как мне потом рассказал Любищев, в психиатрическую, они поправились, а осенью обоих вернули на работу. Оба они были выдвиженцами и впервые столкнулись с реальностью. Она, говорят, понимала математику, а муж, методист, был невежественным, как все методисты”[286].
В этом эпизоде фигурируют преподаватели кафедры математики: кандидат педагогических наук Матвей Семенович Мацкин (1913 –?) и его жена, доцент, кандидат физико-математических наук Роза Юдовна Мацкина (1923 –?)[287].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Посмотрим, кто кого переупрямит…»"
Книги похожие на "«Посмотрим, кто кого переупрямит…»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Нерлер - «Посмотрим, кто кого переупрямит…»"
Отзывы читателей о книге "«Посмотрим, кто кого переупрямит…»", комментарии и мнения людей о произведении.