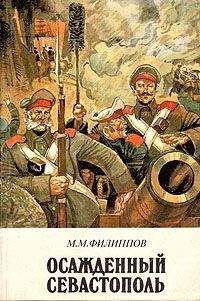Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранное. Мудрость Пушкина"
Описание и краткое содержание "Избранное. Мудрость Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», «Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва» и «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими перу Леонида Гроссмана и Н. В. Измайлова, которые ярко характеризуют личность М. О. Гершензона и смысл его творческих усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы Гершензона не только во многих своих частях сохраняют значение первоисточника, они сами по себе – художественное произведение, объединяющее познание и эстетическое наслаждение.
Но одним психологическим портретом не мог ограничивать Гершензон своих Пушкинских изучений. Иной вопрос всегда занимал его – отношение биографии поэта к его творчеству, то есть психология творческого процесса. Южный «итинерарий» Пушкина с Раевским не был главною целью, но лишь биографическою канвою работы: на ней строилось исследование внутренних, душевных состояний поэта, как «таинственных источников вдохновения» и их воплощение в творчестве. Основным же положением, аксиомою, из которой исходил здесь (и во всех дальнейших трудах) исследователь, было утверждение, что «Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства, – надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину»[503]. На этом общем тезисе покоится и основной прием исследования, формулированный гораздо позднее, но усвоенный уже очень рано – прием «медленного чтения», то есть вчитывания в каждую строку и в каждое слово Пушкинского текста – «потому что его короткие строки наиболее содержательны из всего, что написано по-русски», а «его глубокие мысли облицованы такой обманчивой легкостью, его очаровательные детали так уравнены вгладь, меткость его так естественна и непринужденна, что при беглом чтении их и не заметишь»[504].
И вот, путем «медленного чтения» отправляется исследователь в те места пушкинского творчества, «куда еще не ступала нога человеческая – места трудно доступные и неведомые»[505]. Таких мест, оставшихся нераскрытыми поверхностными чтецами, бесконечное множество: отдельные приемы и моменты творчества, целые произведения, наконец – вся целостная система мышления, все мировосприятие Пушкина. И в каждом вопросе, которого касается таким образом Гершензон, ему открываются выводы, идущие вразрез с установившимися понятиями традиционного Пушкинизма; каждой статьей он вызывает возражения и споры; от иных своих положений он бывает принужден отказаться. Но общая линия была тверда, и система, однажды намеченная, строилась неуклонно.
Психологии творчества Пушкина посвятил Гершензон ряд специальных статей, начиная с этюда о «Пиковой Даме» (1910). Всюду задачею исследования является – конструирование творческой личности поэта, выразившейся в творческом акте, проецированной на поэтическое произведение. Отсюда – неизбежный психологизм в подходе к вопросам творчества, насквозь проникающий работы Гершензона, и символическое понимание поэтических произведений, характерное для него. На своем пути исследователь дает множество тонких и интересных наблюдений, но и впадает в субъективизм, делающий спорными основные его утверждения.
Как раскрытие психологии творческого процесса задуманы почти все его этюды об отдельных произведениях Пушкина: о «Пиковой Даме», «Метели», «Станционном смотрителе», «Домике в Коломне», «Моцарте и Сальери», «Графе Нулине», «Памятнике». В них исследователь намеренно отрешается от всех сопутствующих условий историко-литературного порядка, оставляя в стороне такие вопросы, как общественное и литературное окружение Пушкина, его отношение к русской и западноевропейской литературам, общеисторический момент и проч. Изоляция творческого процесса, как чисто психического акта, позволяет ему глубже сосредоточиться на его внутренней, имманентной телеологии; но, с другой стороны, искажает перспективы и ведет невольно исследователя к аберрации зрения[506].
Так, замысел «Пиковой Дамы» определяется заданием чисто психологическим: Пушкин хотел, по мнению Гершензона, изобразить в своей повести «соприкосновение души, определенно настроенной, с соответствующим этому настроению элементом действительности»[507]. Отсюда объясняется внутренними, душевными состояниями героя вся композиция повести: исключается момент фантастики («факты слишком невероятны, чтобы Пушкин с его трезвым умом, с его любовью к простому и реальному, мог соблазниться таким Гофмановским сюжетом»[508]; вся история трех карт истолковывается, как ряд случайностей, лишь для Германна, в силу его настроенности, получающих силу ведущей и направляющей его полной истины, и т. д. Но очевидно, что так, вне литературной обстановки 1830-х годов, с ее остро-стоявшим вопросом о повести вообще и фантастической в частности, вне соотношений новеллы Пушкина с творчеством Гофмана, Бальзака, Одоевского и других – не может быть дано полного анализа «Пиковой Дамы», и интерпретация Гершензона оказывается недостаточной. А, вместе с тем, непосредственные наблюдения его над характером Пушкинской прозы («не картина, а рисунок пером») так тонки, так многозначительны, что мимо них не может пройти ни один исследователь вопроса.
Тот же субъективистический психологизм господствует и в позднейших его статьях. В этюде о «Домике в Коломне» Гершензон вступает в характерный для него спор с В. Я. Брюсовым. Последний, в истолковании генезиса повести, исходит из анализа литературной обстановки 1830 года и из признания «опытного», экспериментирующего характера творчества Пушкина, «старавшегося перенять все формы, выработанные на западе». С необычною для него ироническою резкостью отвергает Гершензон толкование Брюсова: «Я полагаю, что приписывать Пушкину подобные [формально-литературные] намерения – в корне ошибочно; думаю даже, что такая «литературность» должна была внушать ему отвращение и что поэт, затеявший произведение с таким холодным рассчетом, был бы им сурово осужден»… «В духе объективного художественного творчества «Домик в Коломне» никогда не удастся понять осмысленно: с этой точки зрения он неизбежно представляется нелепым произведением, несмотря на отдельные его красоты. Понять его можно только психологически, в кипящей душевности Пушкина…» – говорит Гершензон[509]. Но тезис Брюсова об экспериментирующем характере творчества Пушкина для нас, чем дальше, тем более несомненен; а предложенное Гершензоном толкование «Домика в Коломне», при всей тонкости и верности характеристики настроений Пушкина в Болдинский период, имеющей большую биографическую ценность, кажется нам искусственным и не объясняющим очень многого в Пушкинском замысле.
Отрицание исторической литературной обстановки видим мы и в статье о «Метели»: повесть интерпретируется символически, как изображение мудрой судьбы, двигающей человеком по своей прихоти, но приводящей к разумным целям. «Кто не догадывается об этом символическом замысле рассказа, должен признать сюжет «Метели» пустым и неправдоподобным анекдотом, какой было бы странно встретить в творчестве Пушкина об эту пору. Повторяю: формально-холодное сочинительство было противно и чуждо Пушкину»[510] А между тем, литературные задания «Метели», связь ее с Вальтер-Скоттовской повестью, с сложно-сюжетным романом «семейных тайн», связь со всем «Белкинским» циклом – не подлежат теперь для нас сомнению.
Но, как ни субъективны основные положения Гершензона, к каким односторонностям они не ведут его, – неизменно в его исследованиях пленяет нас тонкий, мастерской анализ деталей Пушкинских замыслов. С его теорией можно не соглашаться, – но его наблюдения – плоды глубокого понимания и несравненного знания творчества Пушкина, вместе с верным вкусом и художественным чутьем – всегда убедительны и верны. Так, символическое толкование «Бесов» может быть спорно; объяснение того, почему Пушкин, вопреки своей «авторской честности», мог раннею осенью, 7 сентября, писать о зимней вьюге и видениях заблудившегося в снегу путника – кажется слишком замысловатым. Но наблюдение, в основе, оказывается верным: черновая рукопись «Бесов» (в Публ. Библиотеке СССР имени Ленина, тетр. № 2382) убеждает нас в том, что стихотворение задумано и набросано не раннею осенью, не 7 сентября 1830 г., как помечен перебеленный автограф, а в начале зимы, в ноябре 1829 г., когда Пушкин много разъезжал по усадьбам своих Тверских друзей. Поэт остался верен своей творческой правдивости, и Гершензон интуитивно верно угадал это. Также замечательно своею тонкостью определение композиции стихотворения «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…», как диалога: Гершензон, не видя рукописи, не мог исправить до конца ошибок Анненкова, запутавшего чтение; но мнение его о диалогическом характере пьесы находит себе теперь полное подтверждение.
Итак, символичность замыслов Пушкина и их соответствие внутренним, глубоко-интимным состояниям сознания поэта – вот что стремится раскрыть Гершензон. Но, продолжает он, «мы не поймем ни одной из написанных им строк и исказим смысл всех, ежели не будем помнить за чтением его поминутно, что он был весь горячий и расплавленный»[511], то есть не будем видеть за прямым смыслом его слов другого, потаенного, доступного лишь вдумчивому анализу путем «медленного чтения». Поэтическое слово, по мнению Гершензона, является у Пушкина терминологическим носителем внутреннего смысла (или многих смыслов), совершенно независимо от своего исторически-нейтрализованного, коммуникативного или образного значения. Последние отступают как-то на второй план – и это дает возможность, для определения символического значения слова, пользоваться им безразлично к современным Пушкину языковым нормам, к хронологии Пушкинского творчества и даже к месту и функции данного слова в общей поэтической композиции. Разные словесные ряды не различаются, а очень разнообразные настроения и состояния, разнообразные стилистические приемы, выражаемые одним термином или близкими по значению словами, сводятся к одному субстрату – к одному общему положению мировоззрения Пушкина. Это относится особенно к работам Гершензона «Явь и сон» и «Тень Пушкина». Так, в первой из них автор пишет: «Обыкновенное русское слово «забвение» Пушкин рано наполнил своеобразным содержанием и с тех пор употреблял его, как специальный термин. Именно словом «забвение» он обозначал то состояние личности, когда душа как бы вдруг обрывает все бессчетные действенные нити, непрестанно ткущиеся между нею и внешним миром, и замыкается в самой себе. Тогда, по свидетельству Пушкина, душа инертна и глуха вовне, но тем более полна внутри себя привольной и радужной игры…»[512]. В развитие и обоснование этого положения приводится ряд цитат, поражающих нас тонким знанием творчества Пушкина и дающих богатейший материал для изучения его поэтического стиля и фразеологии. Но Гершензона занимают не вопросы стиля и словоупотребления: в глубине поэтического творчества Пушкина он ищет его общей теоретической системы, того «мировоззрения», которое «мы еще слишком мало знаем», потому что «его стихи гладки – скользнешь, и не заметишь, что в них», – системы Пушкинской философии.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное. Мудрость Пушкина"
Книги похожие на "Избранное. Мудрость Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Избранное. Мудрость Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.