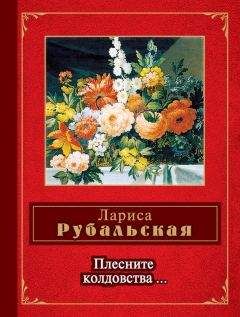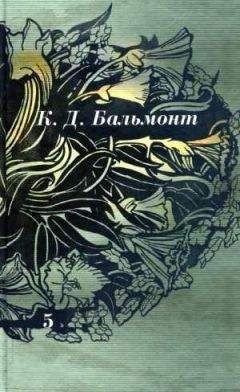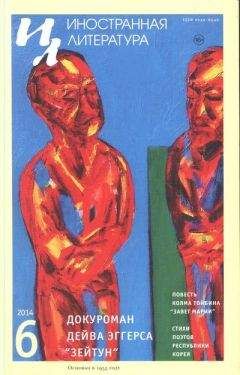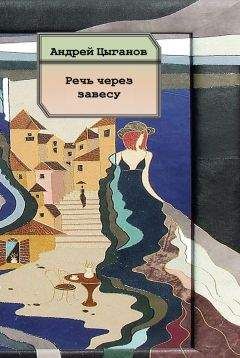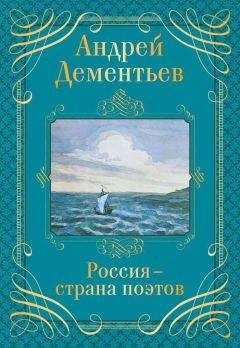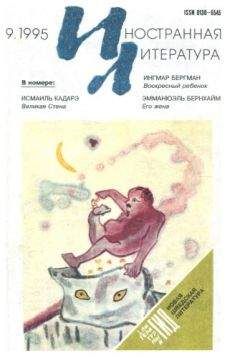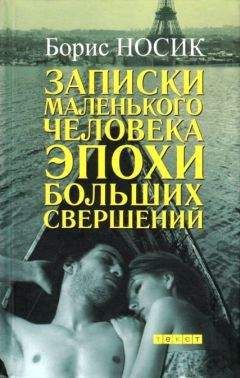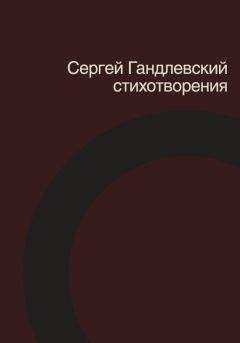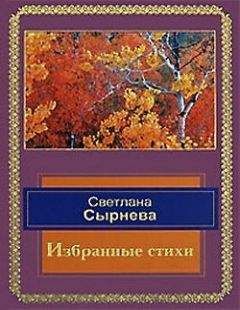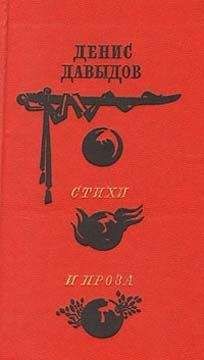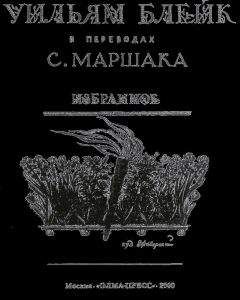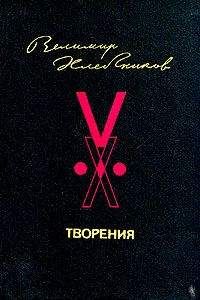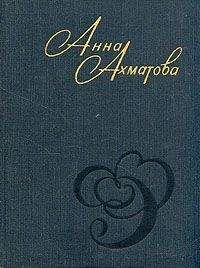Филипп Жакоте - Прогулка под деревьями
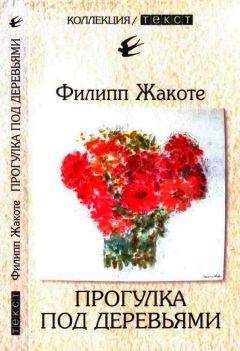
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Прогулка под деревьями"
Описание и краткое содержание "Прогулка под деревьями" читать бесплатно онлайн.
Филипп Жакоте (род. 1925) — один из самых крупных в Европе современных поэтов, лауреат многих литературных премий. Родился в Швейцарии, живет на юге Франции. В сборник включены произведения разных лет: стихи, проза, дневники, эссе. Большая часть текстов переведена на русский язык впервые.
Эта зима показалась мне просто ужасной, несмотря на то, что довольно бодро борюсь с ней и одолеваю ее… осточертели эти пятидесятиградусные морозы, метели, душу и тело леденящие капризы сумасшедшей природы и погоды. Каждый шаг, каждый вздох — борьба со стихиями, нет того, чтобы просто пробежаться или просто подышать! И плюс ко всему — темнота, а я ее отроду терпеть не могу, она ужасно угнетающе действует, хоть и прихорашивается звездами, северным сиянием и прочими фантасмагориями.
Мрак и холод — вот ад, а православные-то дурни считают, что грешники обязательно должны жариться, кипеть и еще вдобавок лизать что-то горячее!..»
Кто же написал это в 1950 году? Дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон, сосланная в сибирский городок Туруханск, недалеко от полярного круга.
Кому она пишет? Борису Пастернаку, к которому испытывает почти то же живое чувство, что и ее мать.
Человеку, прочитавшему только эти письма, прекрасно переведенные Симоной Лучиани, трудно понять, в чем, собственно, состояла вина (и была ли она вообще), стоившая Ариадне Эфрон пожизненной ссылки, несмотря на то что она преданно служила советскому режиму. Какая разница; это еще одно обвинение, еще одно доказательство ненависти к духовной жизни, присущей любой тирании. Но для меня это также впечатляющий пример силы, какую порой обретает язык в тяжких испытаниях судьбы — и в данном случае, от Москвы Мандельштама 1921 года до Колымы Шаламова, — испытание холодом. Ибо не будет преувеличением сказать, что в этих письмах Ариадна Эфрон встает вровень со своим великим собеседником — если не превосходит его, как в человеческом, так и в литературном смысле.
Варлам Шаламов. Поэт, боровшийся со сталинским режимом и арестованный впервые в возрасте двадцати двух лет в 1929 году, затем освобожденный в 1931-м, снова осужденный за «контрреволюционную деятельность» в 1937 году сосланный в Сибирь, где он проживет четырнадцать лет; реабилитированный, наконец, в 1951-м и умерший в 1982-м, жертва эпохи, которая, как он сам написал, «заставила человека забыть о том, что он человек».
Здесь мы — перед отвесной скалой, здесь обнаженное человеческое сердце ударяется о камень; здесь все направлено на уничтожение человека; но перед нами один из тех немногих, что сумели вернуться оттуда и заговорить.
Колымские лагеря были расположены приблизительно в тех же приполярных широтах, что и городок, куда была выслана Ариадна Эфрон. Температура там бывает, как пишет Шаламов, еще на десяток градусов ниже; но это не самое страшное. К жестокому морозу нужно прибавить голод, истощение, болезни, каторжный труд, побои. Я не хочу и не могу повторять эти рассказы. Их язык монотонен, беден, суров, как те ледяные, каменные дни. Здесь не может быть интонаций, оттенков — в тех областях уже нет ничего, кроме последней суровости, стужи; никакой надежды на улыбку, дружбу, вообще никаких надежд; ничего, кроме голода, воровства, взаимных доносов, драк, гниения заживо, ударов, наносимых людям, лишенным плоти, живым скелетам. И самое худшее — постепенное растление душ; как оно описано в рассказе «Тифозный карантин» — случай с капитаном Шнайдером, образованным немецким коммунистом, чесавшим пятки уголовнику, который якобы без этого не мог заснуть.
Но вопреки всему Шаламов выжил; не только выжил, но сохранил нетронутой веру в поэзию, которая, как он утверждал, в худших испытаниях была его «крепостью». Как не поверить такому очевидцу?
Я вспомнил тогда, снова и снова раздумывая о судьбах людей, скованных этими железными цепями, о Дантовом «Аде». Там, в глубине Ада, было «зловещее жерло», не адский огонь, но угасание тепла и света, абсолютный холод, ледяное озеро во мраке ночи, озеро твердое, как скала:
Я увидал, взглянув по сторонам,
Что подо мною озеро, от стужи
Подобное стеклу, а не волнам[204].
Вмерзшие черепа ударяются друг о друга, как камни, из-за слишком большой тесноты, в гневе и ненависти:
Бревно с бревном скоба бы не скрепила
Столь прочно; и они, как два козла,
Боднулись лбами, — так их злость душила.
И слезы, последние свидетельства жизни, последний шанс к спасению, сами становятся «хрустальными забралами». (Все эти видения, отмечает Данте мимоходом, навсегда поселили в нем страх перед замерзшей водой.)
Нашему веку принадлежит редкая заслуга — явить на поверхности, в настоящем мире и с настоящими людьми, самую невыносимую сцену, придуманную беспощадным гением.
Не будет ли слишком «красиво» и успокоительно процитировать под конец один фрагмент из «Ада» Данте — но он удивительно хорошо сочетается в моем сознании со смехом Аглаи и с горными потоками Швейцарии, — повествующий, каким образом Данте и Вергилий нашли путь к выходу?..
Там место есть, вдали от Вельзевула,
Насколько стены склепа вдаль ведут;
Оно приметно только из-за гула
Ручья, который вытекает тут,
Пробившись через камень, им точимый;
Он вьется сверху, и наклон не крут.
Мой вождь и я на этот путь незримый
Ступили, чтоб вернуться в ясный свет,
И двигались все вверх, неутомимы,
Он — впереди, а я ему вослед,
Пока моих очей не озарила
Краса небес в зияющий просвет;
И здесь мы вышли вновь узреть светила[205].
В этом заключена глубокая тайна. Но порой, идя своим несравненно более легким и даже, я бы сказал, однообразным путем, я словно следую за тем же вожатым, чтобы освободиться от связавших меня пут, чтобы путем незримым выйти в ясный свет…
________________ Перевод А. КузнецовойТРЮИНАС, 21 апреля 2001
Накануне похорон Андре дю Буше, 20 апреля, его дочь Мари позвонила мне и попросила сказать слово во время панихиды; я ответил сначала, что у меня вряд ли хватит на это мужества. Но потом, в тот же вечер, я вдруг представил себе, что никто вообще ничего не скажет — уже предчувствуя, что никакой общепринятой церемонии не будет, — и торопливо набросал следующее:
«В последнем письме, полученном от Андре дю Буше 31 марта, были слова: „Возвратясь в Трюинас, в восхитительной вьюге…“»
Они напомнили мне стихи Гёльдерлина, из «Мнемозины»:
И снег, словно ландыши мая, он воплощает
Души благородство — где бы она
Ни взрастала — сверкает среди зеленых
Лугов на склонах альпийских
Там, где ввысь уходит тропа, твердя
О кресте придорожном — он был воздвигнут
В память погибшим,
Один путник и рядом Другой.
Но что это значит?
«Благородство души»: слова, которые сейчас почти невозможно выговорить, но ведь именно за это мы любили Андре дю Буше, восхищались им; еще любили его юношескую горячность, которая не покидала его до последних дней — несмотря на то что ему пришлось вынести; и восхищались твердостью духа — ее он тоже сохранил до конца, этому я всегда немного завидовал.
Всякий раз, возвращаясь из Трюинаса, мы с Анн-Мари чувствовали себя окрепшими, внутренне обновленными. И если было светло, то на обратном пути, миновав Дьелефи, мы встречали узенькую речку, она сверкала перед нами словно некий путеводный свет, в нескольких местах рассекший скалу, которая и сама вся сияла. Именно такие вещи поддерживали нашу дружбу в течение этих пятидесяти (и даже больше!) лет, именно о них он умел сказать в своих стихах, как никто, — словами, подобными стрелам, тугому луку.
Пламенеющими словами.
Мы не услышим их больше никогда, я хочу сказать, не услышим его голоса, — и этого нам будет очень не хватать, каждому из нас.
«Восхищенный в Трюинасе, сегодня, 20 апреля, унесенный восхитительной снежной бурей»: «снег словно ландыши мая» — они скоро появятся — «он воплощает / души благородство / где бы она ни взрастала»…
И вот, когда на другой день мы, покинув Гриньян около девяти утра, ехали вдоль медленно сужавшейся долины Леза, я показал Анн-Мари тучи на горизонте (к которым мы приближались), прибавив, что они могут нести снегопад. И в самом деле, снег пошел сразу после Дьелефи, тяжелый и влажный, одновременно сгустился туман, мы даже стали опасаться, что не доедем. В Трюинасе нас встретил припудренный белым простор, холодный воздух, скользкая грязь на дороге; получалось теперь, что фразу про «снежную бурю», которой я хотел начать и завершить свою речь и которую употреблял метафорически, нужно будет изменить, потому что вьюга, сопровождавшая вынужденный отъезд Андре дю Буше из Трюинаса в конце марта, разыгралась снова — на этот раз провожая его в последний путь…
Когда мы оказались на маленьком кладбище на дне долины, рядом с часовней, где, кстати, мы ни разу не были раньше, экскаватор дорывал яму в жидкой грязной земле. Уже собрались люди, некоторых мы не знали, но были и знакомые, и друзья, однако никого из членов семьи, так что мы решили пока зайти в часовню, чтобы укрыться от холода и редкого снега, который продолжал падать, но часовня оказалась заброшенной, и внутри было еще безнадежней и холодней, чем снаружи. Наконец мы увидали Анн, затем Мари, а потом Поля и Жиля. Казалось, ничего, совсем ничего не было подготовлено, спланировано заранее; я даже не говорю о церемонии, о подобии ритуала, этого никто и не ждал; но не было вообще никакого намека на порядок: царила странная растерянность, всё как будто происходило само по себе, стихийно — но, быть может, в конечном счете это было лучше. Анн-Мари подхватила под руку Жака Дюпена, который поскользнулся на склоне. Гроб стоял на металлических строительных козлах внутри маленькой покосившейся оградки, где, кажется, были еще одна-две могилы. Все происходящее вдруг предстало мне очень странным, и это чувство все усиливалось: неожиданный холод, маленькая долина, припорошенная снегом, которая вдруг открылась моему взгляду за кладбищенской стеной, и более всего — хаос, растерянность, затянувшееся молчание, — всё это было так необычно, что (как вспомнилось гораздо позже) я ни разу даже вскользь не подумал о мертвом теле в гробу, о теле моего близкого друга, нет, ни на секунду — и мне кажется, что это была не просто внутренняя зашита от избытка страдания…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Прогулка под деревьями"
Книги похожие на "Прогулка под деревьями" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Филипп Жакоте - Прогулка под деревьями"
Отзывы читателей о книге "Прогулка под деревьями", комментарии и мнения людей о произведении.