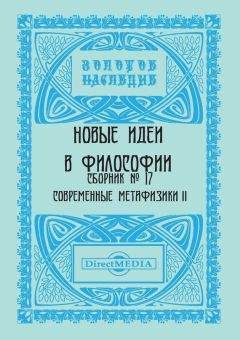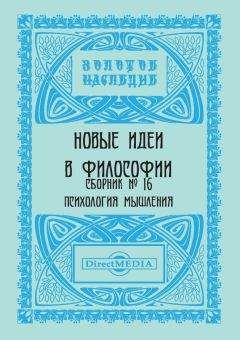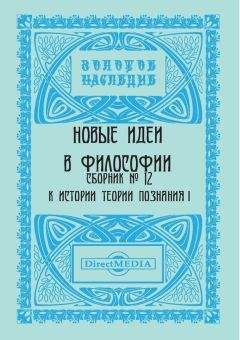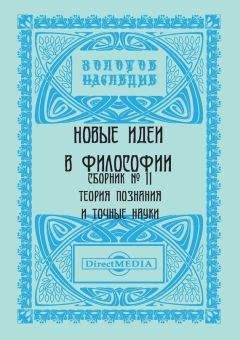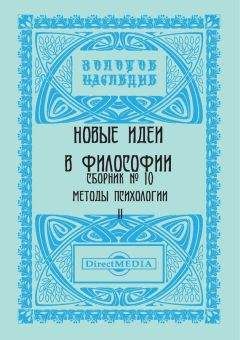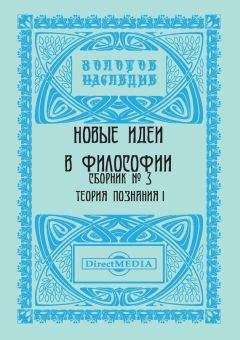Томас Венцлова - Собеседники на пиру

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собеседники на пиру"
Описание и краткое содержание "Собеседники на пиру" читать бесплатно онлайн.
В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году. Сборник издавался в виде отдельной книги и использовался как учебник поэтики в некоторых американских университетах.
Система взаимоотношений и взаимоотражения персонажей обретает дополнительную глубину, ибо за каждым из основных героев просвечивают его «небесные соответствия» (ср. характерные высказывания: «ее ты душу сквозь мою видиши», с. 366; «апостола лицезрети удостоин бых в отсиянии некоем славы его», с. 368). За Владарем, как мы уже отмечали, встает образ Георгия, за Иоанном Пресвитером — Иоанна Богослова. Брак Отрады и Владаря есть отражение брака Параскевы и Иоанна, а этот брак, в свою очередь, — отражение брака Марии и Иосифа-обручника (совершенно таким же образом царство Владаря отражает царство Иоанна, а царство Иоанна отражает небесный Иерусалим). Аналогия Отрады с Марией проведена особенно отчетливо: Отрада является Владарю в иконном образе Богородицы (с. 300), узнает от Парфения о своей будущей скорби (с. 305), слышит слова ангела «Радуйся, мать Светомирова!» (с. 310), покрывает детей своих «убрусом» (с. 326), расшивает пелены церковные (с. 339), должна бежать с младенцем в чужую страну от «ищущих души» его (с. 343), грудь ее пронзена острым оружием (с. 344) и мн. др. Посланцы Иоанна Пресвитера, приносящие «дары многоценные» (с. 350), аналогичны евангельским волхвам. В этой сети соответствий и подобий постепенно проясняется важнейшее подобие: Светомир есть отражение Христа, а на самом глубинном уровне равносущ Ему.
Но «Повесть о Светомире царевиче» говорит не только о событиях психического, пневматического и космического плана. На поверхностном уровне, о чем уже было сказано, она прочитывается как исторический роман. Правда, это необычный исторический роман: в нем описана альтернативная, реально не имевшая места история России (и отчасти Византии). В русской литературе XIX — первой половины XX века подобный прием, видимо, уникален, да и в мировой литературе он редок: лишь в последние десятилетия он получил распространение в научной и паранаучной фантастике. Суть того, что делает Иванов, — в синхронизации разновременных событий и одновременно в придании им панхронного смысла (можно было бы также сказать, что сюжет повести развертывается в некоем параллельном, альтернативном времени). В истории Владаря спрессовано едва ли не тысячелетие: бои со «степью окрайной» (с. 258), татарское иго (с. 294–295), победа над «агарянами», соответствующая битве на поле Куликовом (с. 302–303), завоевание двух ордынских царств (с. 324), борьба за выход к западному морю (с. 314, 327), а также падение Константинополя, принятие короны «третьего Рима» и основание патриаршества (ср. слова Владаря о «ветхого царства конце и нового кесарства зачале в стране полнощной», с. 338). Более того, во многих местах повести рассыпаны намеки и на события XVIII и XIX века: «кораблестроительство многое», «законов и нравов преложение, наук и художеств изощрение» (с. 306) ассоциируются с петровскими и екатерининскими временами, а стратегия Владаря в его последней большой войне повторяет стратегию Кутузова (с. 322–324). В продолжении, написанном Ольгой Шор, затронуты и позднейшие события вплоть до Ледового похода и Гулага (с. 485–490). Следует отметить, что самодержцу Владарю придаются некоторые черты Петра (с. 291–292) и даже Ивана Грозного, при котором состоит своего рода Малюта Скуратов — Васька Жихорь (ср. хотя бы с. 341). Рассказ, таким образом, приобретает историческую колоритность, а «мерцание» реальных событий сквозь легенду создает предпосылки для утонченной литературной игры. Однако этот прием, разумеется, не является чисто литературным, а представляет собой еще один механизм ивановского мифотворчества. Процитируем по этому поводу Ольгу Дешарт:
«В одном из своих стихотворений В. И. описывает звездное небо. Поэта поражает это зрелище потому, что в этот миг, в этот единый миг, он видит мириады звезд не там, где они светятся ныне, а там, где они находились в разные времена — и нам, и друг другу близкие и далекие. […] Единое пространство, охватываемое единым взором, связало здесь наглядно распавшуюся связь времен»[278].
Иванов создает «реальнейшую» историю России, историю, долженствующую быть; это как бы historia sacra, встающая за historia profana. Глубинный смысл этой истории, по Иванову, — «самоопределение собирательной народной души в связи вселенского процесса и во имя свершения вселенского»[279], по существу несовместимое «с политическими притязаниями национального своекорыстия»[280]. Повесть Иванова метаисторична: в ней воплощен ивановский миф о России, избирающей не путь традиционной государственности, а путь духа — миф, восходящий к славянофильским построениям, но кардинально переработанный ивановской мыслью.
В свете этого мифа по-новому предстают многие детали рассказа. Приведем лишь один, но важный пример. В стан Владаря перед битвой являются «два латника-исполина в забралах железных под схимами» (с. 302), присланные старцем Парфением. Они решают исход боя и, по всей видимости, гибнут в нем. Разумеется, это историческая реминисценция: воины-иноки — Пересвет и Ослябя, а старец Парфений — св. Сергий Радонежский. Эти же латники являются Владарю перед битвой на Волчьем поле, пророча о теократическом Третьем Риме, в котором заключено «и силы Егорьевой исполнение, и Христова на земле царства зачало» (с. 320). На этом уровне они, вероятно, могут быть соотнесены со святыми Борисом и Глебом, либо со святыми воинами, спутниками Георгия Победоносца — Федором Тироном (Федором Стратилатом) и Дмитрием Солунским[281]. И, наконец, в царстве Иоанна Пресвитера тот же образ является в новом виде:
«Два зрични из меди лита всадника всеоружна и острием копийным в ребра прободена, имуща кийждо на главе шлем, на лице же в забрала место сударец гробный, а в деснице вайе победное. […] И никтоже в народе сказати умеет, чии еста подобия сии, искони именуема Два Свидетеля» (с. 360).
Тайна их может быть раскрыта. О двух свидетелях говорится в Апокалипсисе (Отк. 11: 3–13); Владимир Соловьев в «Трех разговорах» отождествил их с западной и восточной церковью; Иванов, по всей вероятности, принимает соловьевское толкование. Два всадника в «Повести о Светомире царевиче» на глубинном уровне оказываются знаком объединения церквей и грядущей экумены.
Мифические символы в «Повести», постоянно вступая в новые и новые связи, создают бесконечно меняющийся контур, как в многомерном калейдоскопе. По мысли Иванова, их окончательный смысл не может быть высказан человеческим (и, вероятно, даже ангельским) языком; окончательное состояние мира «Повести» выходит за пределы всякого опыта. Именно поэтому «Повесть» обладает единственным в своем роде литературным статусом. Она закончена — и не закончена; необходимо должна быть завершена — и завершена быть не может.
К вопросу о русской мифологической трагедии:
Вячеслав Иванов и Марина Цветаева
Ты пишешь перстом на песке,
А я подошла и читаю.
Общеизвестно, что русские писатели Серебряного века испытывали огромный интерес к мифу. Этот интерес воплотился, в частности, в попытках создавать трагедии на мифологические сюжеты. Такого рода трагедии писали Валерий Брюсов, Федор Сологуб, Иннокентий Анненский и другие; наиболее значительными, возможно, следует считать опыты Вячеслава Иванова («Тантал», 1905; «Прометей», 1915) и Марины Цветаевой («Ариадна», 1927; «Федра», 1928). Трагедии Иванова и Цветаевой написаны в существенно различных исторических ситуациях и входят в разные литературные контексты. Всё же они сходны в том, что не просто пересказывают или перерабатывают мифологический сюжет, но и повторяют своеобразную логику, множественную семантику[282] и вечную незавершенность мифа.
При создании современного произведения на мифологическую тему имеет место «двойной перевод»: с языка мифа на язык искусства и с языка древней (античной или иной) культуры на язык культуры Нового времени. Четко разграничить эти процессы трудно. Здесь подходы Иванова и Цветаевой не совпадают: если Иванов пытается реконструировать греческую трагедию в иной эпохе, то Цветаева демонстрирует весьма свободное отношение как к самому мифу, так и к модели греческой трагедии. Однако оба поэта, хотя и по-разному, находят глубинные измерения мифа. Оба они — согласно с представлениями своей эпохи — основываются на культово-магическом комплексе дионисийства, строят трагедию как повторение и преобразование дионисийского ритуала.
Наше рассмотрение трагедий Иванова и Цветаевой носит характер предварительных заметок. Любая из этих трагедий — серьезный литературный памятник, достойный специальной монографии. Насколько нам известно, пока опубликована только одна такая монография — о «Тантале»[283].
Обе трагедии Вячеслава Иванова являются частями незавершенной трилогии. Вторая часть трилогии — «Ниобея» — написана не была; от нее сохранились только черновые наброски. По структуре и основной теме «Тантал» и «Прометей» достаточно близки. Алексей Лосев определяет эту основную тему (в случае «Прометея») как критику титанизма[284]. Иванова особенно интересуют мифы, относящиеся к циклу о титанах, который предшествует традиционному олимпийскому циклу «теогонически» (вероятно, и диахронически). И в «Тантале», и в «Прометее» речь идет о богоборчестве, о выделении личности из мировой полноты, о противоречивом — преступном и жертвенном — характере этого выделения. «В каждой трагедии явно или затаенно присутствует дух богоборства», — писал Иванов, комментируя «Тантала» (с. 833)[285].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собеседники на пиру"
Книги похожие на "Собеседники на пиру" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Томас Венцлова - Собеседники на пиру"
Отзывы читателей о книге "Собеседники на пиру", комментарии и мнения людей о произведении.