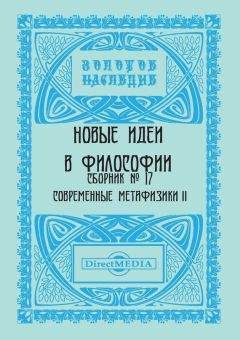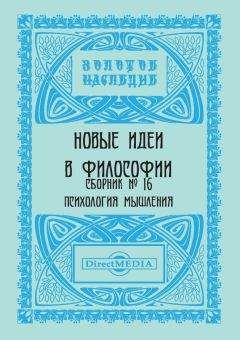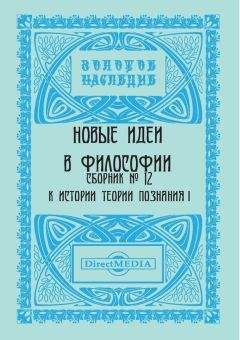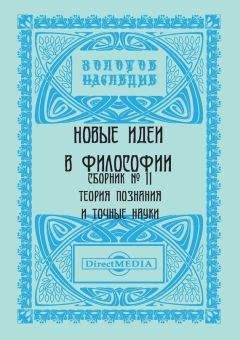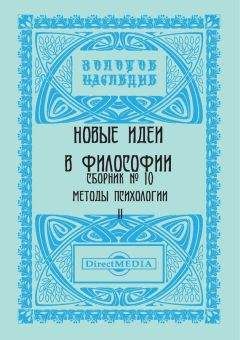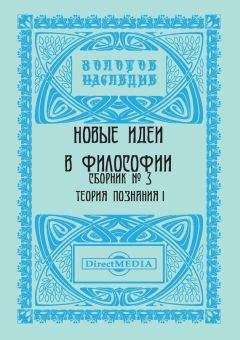Томас Венцлова - Собеседники на пиру

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собеседники на пиру"
Описание и краткое содержание "Собеседники на пиру" читать бесплатно онлайн.
В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году. Сборник издавался в виде отдельной книги и использовался как учебник поэтики в некоторых американских университетах.
Меняется и рассказчик, адресант. Сейчас это не просто редуцированная точка зрения — это скорее конкретное лицо с конкретной судьбой; но оно по-прежнему двоится и троится, предстает одновременно как поэт, повествующий о прошлом, и как его двойник, бывший и небывший мальчик из виленского гетто, то ли погибший «на синих Карпатских высотах», то ли пересекший границу, «сменивший империю», растворившийся в чуждых пространствах. Оба варианта его судьбы крайне ироничны. Буква стирает личность: что Вера, что Отечество, что Первая мировая, что Новый Свет (28–32) — нечто одинаково отчужденное и бессмысленное. Сохранен тот же непрямой модус отношения к миру, тот же антипафос, что и в интродукции; впрочем, это вообще свойственно Бродскому и нарушается не часто (тем весомее бывают нарушения).
Темы или мотивы, заданные в интродукции, по образцу музыкального произведения разрабатываются в следующих частях цикла. Здесь, во втором стихотворении, отметим мотив еврейства: он важен для Бродского, но важен прежде всего в цветаевском смысле («В сем христианнейшем из миров / Поэты — жиды»). Кроме того, это мотив человека, создаваемого и определяемого чуждым взглядом («наведенным лорнетом», 23), живущего в мире чужих языков и мод, чужой эмблематики, идеологии, истории. Отметим еще мотив телесной, сексуальной жизни — ущербной, бесплодной, стыдной, в конечном счете тоже сводящейся к одиночеству, изгойству. Обе эти темы — наряду с другими — в различной инструментовке пройдут и в последующих стихотворениях.
Третье стихотворение — как бы короткая секвенция из современного кинофильма. Снова меняется ритм, грамматика (существительные и глаголы оказываются в приблизительном равновесии), синтаксическое членение (секвенция состоит из трех строф, каждая из которых — завершенная фраза). В интродукции была дана обширная пространственная панорама, во втором стихотворении — также и временная; здесь мир резко суживается, пространство и время — любимые и постоянные герои Бродского, наконец-то названные своими именами, — превращаются в действующих лиц, посетителей провинциального кафе (34–37). Кругозор ограничен дверью и ближайшими кровлями (34, 39); следующие друг за другом крупные планы лишены стереометричности, глубины (38,41); движения также нет или почти нет — вероятно, минуту назад что-то происходило и окончилось, иссякло. Разрабатывается тема блудного, проклятого, энтропийного города — кстати говоря, очень частая в литературе, связанная с именами Бодлера, Лафорга, Элиота, а также Случевского, Анненского, Маяковского, Заболоцкого, восходящая к апокалиптической мифологии (Штальбергер, 1964, с. 51–55; Топоров, 1980, с. 4–6). Вновь проходят мотивы немоты, псевдокоммуникации («веления щучьего», 42) и телесной, сексуальной жизни — в ее наиболее низком, случайном, натуралистическом варианте (44–45). Рассказчик вновь подчеркнуто ироничен по отношению к самому себе и отделен от самого себя: его взгляд — это взгляд со стороны, в профиль (41).
Четвертая часть весьма отлична от остальных. Это композиционный центр и стержень цикла. С другой стороны, это как бы «отступление в отступлении», «дивертисмент в дивертисменте», нечто слабо связанное с остальными стихотворениями — и в этом смысле нулевой пункт. Он выделен и по величине, и по строфике, и по теме. Поэт переходит от описания мира к описанию знака, эмблемы этого мира — иначе говоря, к метаописанию. Говорится о Погоне (Vytis), гербе средневековой Литвы, а также независимого литовского государства в 1918–1940 годах. Погоня — всадник с поднятым мечом, белый на красном поле, сходный, но не совпадающий со св. Георгием. Кстати, в советизированной Литве он встречается далеко не «повсеместно» (ср. 49).
Описание герба, подпись под гербом, так называемый Subscripts — весьма характерный барочный жанр (см. Морозов, Софронова, 1979). Барокко вообще интересовалось геральдикой, иероглификой, герметическими знаками (см. Беньковска, 1979), и стихи, отдаленно похожие на стихотворение Бродского, сочинялись в Польше и Литве XVI–XVII веков в больших количествах. Писали их и по-польски, и по-литовски, и по-латыни. Разумеется, Бродский осовременивает и трансформирует старинную форму, которую он вряд ли специально изучал. Но какие-то ее черты он сознательно или бессознательно повторяет. Это некая загадочность, совмещенная с риторическим рационализмом; это особенная подчеркнутость плана выражения — например, изысканное анаграммирование заглавного слова герб («Драконоборческий Егорий, / копье в горниле аллегорий», 46–47; ср. далее гяура, 55 и др.). С другой стороны, несколько издевательский поворот темы (56–57) вряд ли мыслим для торжественного барочного жанра. И всё же, несмотря на эту просторечную ироническую ноту, общий смысл стихотворения скорее серьезен: страна в прошлом имела отношение к чести и цели (50–51), к религии и культуре, к мировому целому, от которого сейчас она отчуждена. Есть, пожалуй, и еще один смысл: стихотворение о гербе относится не только к миру, описываемому текстом, но и к самому тексту. Герб повторяет важное свойство текста: нечто крайне существенное в тексте не дано, а лишь предполагается («Предмет погони / скрыт за пределами герба», 53–54). Это могут быть обстоятельства возникновения цикла, может быть автор и слушатель; возможно, это Бог, к которому в конце (84) оказывается устремленным весь цикл.
После центрального четвертого стихотворения части цикла как бы проигрываются в обратном порядке. Пятая часть симметрична третьей, сходна с ней по настроению и теме. Это всё тот же мир, распадающийся на глазах, лишенный глубины, данный метонимиями и крупными планами, — мир отсутствующей коммуникации, несостоятельной телесной (сексуальной) жизни, несвободы и лжи, отчаяния и смерти. Пространство снова сведено к замкнутой комнате; подлинного движения и действия — т. е. подлинного времени — снова нет. Разница в том, что сцена сейчас не вечерняя, а ночная (любопытно, что «Литовский дивертисмент», как и некоторые другие вещи Бродского, охватывает полный суточный цикл — от полудня через вечер и ночь опять ко дню). «Меланхолия, мания и колтун» заглавия повторены в бредово-экспрессионистских (и наукообразных) метафорах и сравнениях текста (58–61, 65, 69). Это как бы панорама телесной страны — той, о которой в раннем стихотворении Бродского сказано: «Я думаю, внутри у нас черно».
Существенны здесь два момента, новые для всего цикла. Впервые является второе лицо — некое ты, адресат (62, 70). Трудно сказать, кто это: в адресате объединяются и «друг-философ» XVIII века (средневековья?), и тот, кому стихи посвящены, и сам автор, и отчасти читатель, и юноша из второй части, повзрослевший на пять-шесть лет и постаревший на сто. (Сравнение со знаком Зодиака, 70–71, — отсылка к вильнюсской реалии: на университетской обсерватории XVIII века изображены знаки Зодиака, в том числе нагие Близнецы.) Одновременно с появлением адресата начинает преодолеваться немота предыдущих частей. Возникает речь — пока только «часть речи», неназванные слова женщины (68) и одно слово, названное, но непроизнесенное, относящееся к внутреннему телесному миру, взятое в кавычки, как бы представляющее само себя (65). Оно включено не в язык происходящей сцены, а в язык ее описания. Характерно, что оно подготавливается фонетически: все его непроизнесенные звуки уже присутствуют в одной из предыдущих строк («некто в ледяную эту жижу / …ненавижу», 63–65).
Краткая шестая часть, по крайней мере в двух отношениях, симметрична второй. Если вторая часть давала временною перспективу, переносила на 100 лет назад, шестая дает перспективу пространственную, переносит из Вильнюса на берег моря. Тема моря — границы, края земли, преддверия иного мира — важна для всего цикла и в сущности задана уже в первой его строке (о границе и ее пересечении как мифопоэтическом мотиве см., в частности, Гаспаров Б., 1984, с. 129–138). Если во второй части была намечена тема изгоя, Вечного Жида — сейчас она развернута, дана в высокой библейской и отчасти античной тональности. Рассказчик, «путник в дюнах» (73), обычный, даже ничтожный современный человек, не решающийся пересечь границу и все же предчувствующий, что ему придется ступить на воды, совмещается с псалмопевцем Давидом (75) и далее со св. Петром (79). Это приближает нас к высокому взлету последней части.
Последняя часть — всего одно предложение, произнесенное на одном дыхании, обрывающееся на полуслове, на полу-. Фонетически проведенное шепотом, еле ощутимым движением губ, оно замыкает стихи, полностью их преобразуя. В этом конец «Литовского дивертисмента» сходен с концом «Натюрморта» (1971): демифологизированный мир срастается с религиозным мифом. Грамматически последняя часть построена на императиве — поэт по-прежнему видит себя со стороны, обращается к себе на ты, но он уже нашел настоящего адресата, он не замкнут более в мире собственной личности, среди своих бесчисленных близнецов. Падший город, бесконечно удаленный от неземного Града, всё же оказался местом встречи с Богом. Ущербность и расчлененность мира преодолена; пространство разомкнуто вверх; это и есть подлинное пересечение границы, выход из абсурда, вступление в осмысленное время. Анти-речь, анти-диалог цикла прорывается сверхдиалогом, где вопрос или просьба есть в то же время ответ. Тот, кто понял, что по-своему ответствен за абсурд падшего мира, тем самым уже превозмог немоту, отсутствие связи, отсутствие собеседника, восстановил единство с мировым целым. Для этого достаточны четыре слога — единственные произнесенные, выделенные тире четыре слога «Литовского дивертисмента». Слоги эти заранее предсказаны фонетически — как и четыре слога в ночной сцене. Все пространство цикла заключено между двумя кратчайшими фразами — ночной и дневной, абсурдной и осмысленной, непроизнесенной и произнесенной, говорящей о мире и говорящей о Боге. Между четырьмя слогами — и четырьмя слогами: между ненавижу (65) и прости меня (87).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собеседники на пиру"
Книги похожие на "Собеседники на пиру" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Томас Венцлова - Собеседники на пиру"
Отзывы читателей о книге "Собеседники на пиру", комментарии и мнения людей о произведении.