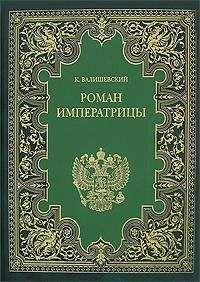Дэвид Гриффитс - Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет"
Описание и краткое содержание "Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет" читать бесплатно онлайн.
В сборнике представлены переводы опубликованных ранее (в 1969 — 2008 гг.) и неопубликованных статей Дэвида М. Гриффитса — одного из лучших знатоков истории России XVIII века. Автор воссоздает круг идей эпохи Екатерины II, анализирует мировоззрение императрицы и изменение ее взглядов во времени. Благодаря этому Гриффитсу удается проникнуть в реформаторские замыслы Екатерины II, понять ее социальную политику и внешнеполитические проекты. Написанные ясно и увлекательно, статьи Гриффитса привлекут внимание не только специалистов, но и всех, кто интересуется историей XVIII века.
Академик Сергей Иванович Солнцев не был так уверен относительно характера рабочей силы. В своем введении к той же части IV он исследовал происхождение рабочей силы на полотняных мануфактурах в 30-е годы XVIII века, чему был посвящен том, и обнаружил, что эти мануфактуры большей частью располагались не в сельской местности. Самой значительной составляющей рабочей силы являлись солдатские дети, к ним добавлялись посадские люди и дети фабричных. Крестьяне, естественно, составляли значительную группу, но даже и они, как часто оказывалось, до поступления на мануфактуру были отделены от земли. К 1740 году почти половина из них проработала на заводах 16 лет и более{507}. По этим данным Солнцев заключил, что тезис о привлечении к работе на заводах сельскохозяйственных рабочих на самом деле имеет мало оснований. Однако закончил Солнцев более традиционно, отметив, что, каково бы ни было происхождение рабочих, они были полностью встроены в систему, условия существования которой были заданы крепостничеством.
Станислав Густавович Струмилин[186] был намного более прямолинеен. Струмилину, занимавшему важную должность в Госплане, была предоставлена возможность высказать свои резкие взгляды в части III серии, посвященной полотняной промышленности конца XVII века. Стесненный редакторским примечанием, дававшим ясно понять, что редакция серии отвергает многие из его положений, академик Струмилин тем не менее повторил свой тезис, который он уже несколько лет упорно разрабатывал, а именно что рабочие текстильной промышленности, как и другие рабочие
XVII века, получали заработную плату, даже дифференцированную заработную плату, и, следовательно, должны считаться рабочими капиталистического типа. Более того, на предприятиях широко использовалось разделение труда и его специализация, и заводы эти, хотя зачастую и находились в ведении государства, приносили прибыль. Следовательно, сами предприятия являлись капиталистическими производственными единицами, сходными по характеру с западными{508}. Для Струмилина, что удивительно (а может, и не очень), бывшего меньшевика, само название серии «Крепостная мануфактура» содержало противоречие в терминах: по определению мануфактура являлась капиталистическим предприятием. Отрицать это значило скатываться к народничеству или легальному марксизму.
Косвенно атака Струмилина была направлена на Покровского, который, хотя и был уже покойным, оставался слишком влиятельным, чтобы атаковать его прямо. Струмилину ответил Михаил Порфирьевич Вяткин в своем введении к части V (последней из опубликованных) той же серии, повторив то, что Струмилин уничижительно назовет подходом Туган-Барановского к русской истории. Материалы, которые предваряло его введение, касались Московского суконного двора, учрежденного государством где-то в начале XVIII века, и как раз к этим материалам Вяткин и обращался, чтобы подкрепить свой тезис. Суконный двор был сдан в аренду купеческой компании в 1720 году, но последнее слово в управлении принадлежало государству. Право собственности, иными словами, было условным. Соответственно, владельцам Суконного двора позволялось продавать на рынке только то сукно, ко торое не приняла Мундирная канцелярия. Что касалось технологии производства, то на Суконном дворе мало применялись разделение и специализация труда. Не было там и разорившихся ремесленников и отпущенных на волю крестьян, которые, по заявлению Маркса, работали на английской мануфактуре. Напротив, здесь, как и на исследованных Солнцевым полотняных заводах, основную часть рабочей силы составляли солдатские дети. И хотя рабочим, надо сказать, платили символическую зарплату (в данном случае в основном продуктами питания, одеждой и другими предметами), работали они не по своей доброй воле. Некоторые были приписаны к мануфактуре государством, в то время как другие пошли на нее в ученики и вдруг, когда ученичество их закончилось, обнаружили, что уйти им нельзя. Январский указ 1736 года, на который сослался Злотников, оказывал государственную поддержку закрепощению, привязывая квалифицированных рабочих, их семьи и их потомков к предприятиям. Отсюда оставался лишь один сравнительно небольшой шаг, чтобы рабочих с завода забрать и использовать их на сельскохозяйственных работах в пользу владельца, который стремился обрести дворянство. Таким образом, Вяткин усмотрел в отношениях между нанимателем и рабочим не свободную куплю-продажу рабочей силы, а применение внеэкономического принуждения владельцем, поддержанным государством. Подтверждением некапиталистического характера предприятия стали события 1771 года, когда Суконный двор был разорен в результате эпидемии чумы. Производство остановилось и не смогло возобновиться, так как владельцы завода не являлись дворянами и им больше не позволялось покупать крепостных крестьян, а наемных рабочих на замену умершим они найти не могли. Принятое в конце концов решение показательно для России: завод продали дворянину, и он отправил трудиться на него своих помещичьих крестьян{509}. На основе этого материала Вяткин заключил, что описываемая им крепостная мануфактура в полной мере была отражением своего некапиталистического окружения и, следовательно, никак не могла быть соотнесена с капиталистической мануфактурой, возникшей на Западе. Российская мануфактура XVIII столетия представляла собой всего лишь первый робкий шаг в направлении промышленного капитализма.
Продолжению спора помешали несколько важных событий, и в первую очередь разгром Покровского, завершившийся к середине 30-х годов (сам Покровский умер в 1932-м, так что был практически избавлен от унижения; но Томсинский исчез[187]). Концепция торгового капитализма, которая к этому времени сделалась синонимом взгляда Покровского на Россию XVII и XVIII столетий, также была дискредитирована. Концепция торгового капитализма имела много достоинств. Она служила заменой буржуазному капитализму, который явно отсутствовал. Но она сделала еще больше, а именно помогла описать период российской истории, в котором капиталистические элементы были включены в систему, основанную на крепостном праве, что в результате давало гибрид, которому, похоже, невозможно было найти параллели. Но эта концепция создавала также бесчисленные проблемы, самой крупной из которых явилась неспособность ее сторонников убедительно отнести эту форму капитала к специфическому способу производства, отличному от формы обмена, в общественном базисе и, следовательно, к хорошо опознаваемой социально-экономической формации. Проблема сделалась особенно острой к середине десятилетия: к этому времени Сталин со всей очевидностью навязал советской науке свою трактовку исторического материализма, единственную и требовавшую строго последовательного перехода от феодализма к капитализму, не допускавшего каких бы то ни было окольных путей. Конечно, большая часть Западной Европы вмещалась в схему, которой суждено было скоро стать стандартной, но что делать с Россией? Что делать с торговым капитализмом? И — что имеет прямое отношение к теме данного очерка — что делать с крепостной мануфактурой? По логике она должна была быть приписана либо к периоду феодализма, либо к периоду капитализма. Но настало время сталинского террора, и эта дискуссия, как и многие другие, была оставлена.
Если что-то и удалось на первом этапе дискуссии, так это определить основные расхождения в вопросе о мануфактуре. Благодаря Томсинскому и Струмилину параметры будущих дебатов тоже были ясно обозначены. Однако даже в возобновившихся позднее дебатах упоминания о торговом капитализме не будет, а также, если уж на то пошло, не будет упоминания и ни о какой альтернативе или дополнении феодализму в этом вопросе. Соответственно, выбирать тем, кто изучает мануфактуру, придется между феодальной и капиталистической мануфактурой. И все-таки под конец некоторые из тех, кто отрицал капиталистический характер мануфактуры, вдруг почувствуют искушение переопределить феодализм и капитализм так, чтобы они согласовывались с их взглядами; и лишь когда это переопределение зайдет далеко, они станут замечать, что создают альтернативные формации, хотя и не будут называть их торговым капитализмом.
Невинная на вид статья под заглавием «Крепостное хозяйство и зарождение капиталистических отношений в XVIII в.», появившаяся в 1946 году в «Ученых записках» Московского университета, ознаменовала возобновление спора. Ее автор Николай Леонидович Рубинштейн, ученик Покровского, дискредитированную концепцию своего учителя о торговом капитализме как отдельной формации отбросил полностью в пользу уже ставшей стандартной схемы из пяти формаций, в которой феодализм неизбежно уступает капитализму. Российская экономика, как утверждал Рубинштейн, только в послепетровский период начала постепенно переходить от феодальной базы к капиталистической. До этого она имела по существу поместный характер и основывалась на рабском труде как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Даже мануфактуры, основанные при жизни Петра, отражают свое феодальное окружение: они нуждались лишь в минимальном вложении капитала, и их владельцами были либо эксплуатирующие крепостных своего поместья дворяне, либо купцы, которым государство пожаловало подневольных работников. Переход к более прогрессивной системе стал заметен только после смерти Петра, когда число мануфактур начало резко расти. Эти новые мануфактуры, согласно Рубинштейну, выросли не на купеческом, а на крестьянском ремесленном капитале и использовали вольнонаемный труд. Указ Петра III, запретивший недворянам покупать деревни с крепостными для использования их на заводе{510}, лишил их доступа к феодальной рабочей силе и тем самым вынудил всецело полагаться на наемный труд в форме отходничества — на крестьян, временно уходивших из деревни на несельскохозяйственные работы. Тем самым предприниматель из недворян волей-неволей был вынужден становиться промышленником нового, модерного образца. За исключением гигантских уральских железоделательных заводов вроде тех, какими владели Демидовы, где в одном месте работали тысячи рабочих, мануфактуры, которыми владели дворяне и купцы и где использовался подневольный труд, уступили свое первенствующее положение более производительным капиталистическим мануфактурам, которые реализовывали свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках, а не поставляли ее государству. Как следствие, к середине века возникли ясно опознаваемые промышленные центры, что способствовало региональной специализации. В этот момент можно действительно говорить о переломе в российской истории, о начале эпохи капитализма{511}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет"
Книги похожие на "Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дэвид Гриффитс - Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет"
Отзывы читателей о книге "Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет", комментарии и мнения людей о произведении.